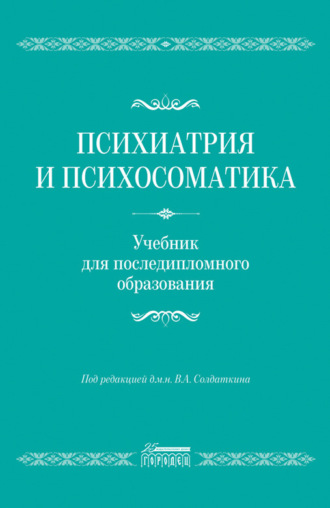
Полная версия
Психиатрия и психосоматика. Учебник для последипломного образования
К особым формам расстройств аффективного спектра могут быть отнесены состояния с различным удельным весом эндогенно-конституционального и психогенного факторов – депрессия истощения П. Кильхгольца, депрессия почвы К. Шнайдера, эндореактивная дистимия К. Вайбрехта. Промежуточное, переходное положение между психогенными и эндогенными депрессиями занимает диагностическая категория дистимии, включенная в основные современные классификации психических и поведенческих расстройств, – депрессия невротического уровня с затяжным течением.
Отсутствие четких границ между отдельными диагностическими категориями – уязвимое место спектрального подхода к диагностике и систематике. Размытость, неопределенность границ внутри континуума является препятствием для формирования гомогенных в клиническом отношении групп при проведении научных исследований.
Кластер. Кластерный анализ – метод многомерной статистики, обеспечивающий разделение множества на группы, упорядочивание объектов или признаков в сравнительно однородные группы. Кластер (от cluster – гроздь) – группа объектов или признаков, выделяемых по совокупности общих для этой группы характеристик. При этом разделение множества на группы осуществляется не по одному, а по совокупности значимых характеристик.
Процесс кластеризации предполагает выделение различных групп объектов с общими признаками. Каждый объект или признак может принадлежать только к одной группе. Объекты и признаки, принадлежащие к одному кластеру, должны обладать сходством, а объекты и признаки, принадлежащие к разным кластерам, – различием.
Объединение в кластер различных диагностических категорий означает наличие у них больше сходства, чем межгрупповых различий. В отличие от спектра кластер или «семейство» диагностических категорий не основывается на континуальном принципе.
При математико-статистическом анализе под кластером понимают группу переменных, имеющих более высокие корреляции друг с другом в сравнении с другими переменными.
В психопатологии кластер – группа симптомов и признаков, обладающих высоким уровнем корреляции. Понятие «дименсия» является производным от понятия «кластер». Дименсия – это кластер психопатологических и поведенческих признаков, которые преобладают при данном расстройстве. Важно понимать, что любой категориальный диагноз может быть разделен на составляющие или дименсии посредством разделения целого на части.
Иерархическая организация кластеров способствует раскрытию клинико-патогенетических закономерностей психических и поведенческих расстройств. На основе кластерного анализа разработаны отдельные разделы современных международных классификаций. В ДСМ-5 систематика расстройств личности основана на данных кластерного анализа.
При этом выделены:
Кластер А: странный, необычный, эксцентричный;
Кластер В: драматичный, эмоциональный, неустойчивый;
Кластер С: тревожный, боязливый.
В качестве иллюстрации кластерного подхода можно привести работу Trevithick L. et al. (2015). Авторы разработали кластерную систематику психических нарушений с прагматичной целью улучшения эффективности психиатрической помощи, а также совершенствования системы ее оплаты. Компьютерный анализ позволил им выделить 21 кластер психических расстройств, сгруппированных в 3 класса: непсихотический, психотический и органический. Выделение кластеров осуществлялось на основании валидизированных методик: Mental Health Clustering Tool (MHCT) и Health of the Nation Outcome Scales (HoNOS).
Домен (от фр. domanie – область, территория, сфера) – единица структуры, отличающаяся по своим свойствам от других смежных единиц. Термин «домен» заимствован из информатики. В опосредованном переводе домен представляет собой часть целого, отличающуюся строго определенными свойствами.
Домен имеет многовекторную структуру. Он представляет собой мозаику условно выделяемых уровней изучаемого явления: симптомов, психологических и поведенческих признаков, социальных навыков, последствий болезни. Целью выделения доменов является попытка охарактеризовать изучаемое явление максимально полно. Составляющие домена относятся к различным уровням оценки объекта или явления. В отличие от синдрома – понятия чисто клинического – в один домен могут быть включены данные оценки биохимического, иммунологического, физиологического, психологического, психопатологического, социометрического исследования. С одной стороны, компоненты одного домена могут входить в структуру различных синдромов, с другой – компоненты одного синдрома могут относиться к разным доменам.
Домен представляет собой взаимосвязанные составляющие, имеющие в своей основе «патогенетическое единство» разноуровневых характеристик. Структурные компоненты домена не связаны иерархическими отношениями. Отдельные составляющие являются равнозначными компонентами домена.
Понятие «домен» имеет преимущественно нормоцентрическую направленность. Примером использования данного термина с нормоцентрической направленностью является выделение доменов здоровья и благополучия в Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (ВОЗ, Женева, 2001). Исследовательские критерии доменов психического здоровья базируются в первую очередь на оценке объективно регистрируемых паттернов поведения и нейробиологических показателях в диапазоне от нормы до патологии. Основой для выделяемых доменов является отказ от клинических признаков в пользу нейробиологических маркеров и их поведенческих коррелятов.
Домен человеческого поведения и функционирования состоит из субдоменов: эмоций, когниции, мотиваций, социального поведения.
Домен здоровья складывается из значимого набора взаимосвязанных физиологических функций, анатомических структур, действий, сфер жизнедеятельности.
Выделение доменов в рамках традиционных психиатрических категорий основывается на дименсиональном подходе. Для реализации дименсионального подхода в клинической психиатрии используются психологические конструкты. Примером данного подхода является выделение когнитивного домена при депрессиях. Составляющими данного домена являются признаки, характеризующие функции внимания, памяти, психомоторные реакции, исполнительные функции при депрессивных состояниях.
Нозологическая форма – абстрактное обобщенное описание идеальной модели болезни, при сопоставлении которой с конкретной клинической картиной в процессе формирования индивидуального диагноза неизбежно возникают определенные трудности. Это связано с тем, что индивидуальное несравненно богаче, разнообразнее, изменчивее, нагляднее общего (в данном случае – общепатологического). Клиническая картина зависит не только от общих закономерностей патогенеза болезни, но и от конституциональных особенностей больного, его пола, возраста, социальных условий, действовавших на него в прошлом и существующих в настоящем, и т. д. При методологически правильном формировании индивидуального диагноза учитываются все перечисленные особенности заболевания у конкретного больного, т. е. проводится структурно-динамический, психопатологический и клинический анализ случая. Диагностический процесс имеет определенный алгоритм. Важно подчеркнуть, что клинический метод определяет направление и качество диагностического процесса в психиатрии. Все остальное служит дополнением к нему. Правильность и полнота решения задач любого этапа диагностического процесса зависят от того, насколько верно и полно они были решены на предыдущем. Речь идет не о простом суммировании результатов, получаемых на отдельных этапах диагностики. На каждом последующем как бы «в снятом виде» представлены итоги предыдущих. Именно таковы основные закономерности познания феномена болезни. Верно отражающий объективную реальность индивидуальный, методологически полный нозологический диагноз с прогнозом устанавливается при обязательном соблюдении последовательности его этапов.
Диагноз есть отражение наших знаний на данном этапе развития науки. Поэтому остаются справедливыми слова С. П. Боткина: «Диагноз больного есть более или менее вероятная гипотеза, которую необходимо постоянно проверять… Могут появиться новые факты, которые могут изменить процесс или увеличить его вероятность». Различают относительно истинный и ошибочный диагноз. Первый не является ошибочным, так как соответствует уровню знаний, достигнутому медициной на конкретный период времени. Второй обусловлен субъективными причинами или условиями. В его появлении всегда кто-то виноват. Одной из частых причин ошибочной диагностики психических заболеваний является незнание или несоблюдение методологических принципов построения диагностического процесса. Овладение принципами диагностики – профессиональный долг врача. В связи с этим такое важное значение приобретает знание общей психопатологии – «психиатрической азбуки» и профессионального языка психиатров, что является отправной точкой и базисом диагностического процесса.
Методологические подходы, которые привнесла в настоящее время доказательная медицина в клиническую практику, привели к тому, что в привычном взаимодействии «врач – больной» появился посредник – медицинский опросный инструмент (МОИ): психометрическая шкала, структурированное интервью и т. д.
В то же время основными методами клинической психиатрии были и остаются феноменологический и клинико-психопатологический. Пока наука не научится считывать мысли и образы с сознания человека (прерогатива научной фантастики), познать субъективный мир душевных переживаний можно лишь через их словесную передачу и частично по мимике, поступкам, вегето-соматическим реакциям. Наше сопереживание (по механизму эмпатии) основано на восприятии этих же внешних проявлений. Хорошо известно, что познать систему, не выходя за ее пределы, невозможно, поэтому клинический метод для познания самого себя не существует. А вот познать чужую психику при помощи своей, используя научный клинический метод, безусловно, можно. Недостаточность такого познания объективно присутствует, но точно так же относительно несовершенными надо признать психологические и другие методы, изучающие психическую (душевную) деятельность.
Абсолютизация формализованных подходов, математизация медицины и, в частности, психиатрии – позиция не бесспорная. Известный специалист по методологии диагноза и выдающийся клиницист А. Ф. Билибин подчеркивал, что «в медицине в принципе не все поддается измерению». То же о науке писал и З. Фрейд: «Признаком научного мышления как раз и является способность довольствоваться лишь приближением к истине и продолжать творческую работу, несмотря на отсутствие окончательных подтверждений». Д. Д. Плетнев считал теоретическую и экспериментальную медицину наукой, а установление индивидуального диагноза больного и поиск способа помочь ему – искусством. Действительно, искусство, отражая духовность человека, вообще не может быть математически «подсчитано». В клинической психиатрии «душевное» частично может быть квантифицировано, но только в изолированном виде, обсчитать все проявления душевной деятельности человека (а психиатрия охватывает еще и соматический, и духовный слои) не представляется возможным.
Клинический метод не является совершенным, он требует массы других дополнительных методов, в первую очередь психологического и психометрического. Тесты, шкалы и опросники широко практикуются в целях объективизации и количественной оценки психических расстройств, в некоторых случаях без них в настоящее время не верифицируется степень расстройства в классификациях (например, коэффициент интеллектуальности для ранжирования степени интеллектуальной недостаточности при олигофрениях). Но они лишь позволяют приблизиться к более полной оценке душевного состояния в силу неизбежности редукционистских ограничений. Психологические и психометрические методы в гораздо большей степени, чем клинический, направлены на объект, а не на субъект исследования. В психиатрии очень часто знание индивидуального, единичного, неповторимого, сугубо личностного может оказаться более важным, чем «объективное и доказательное» знание общего.
Однако в последние годы необходимость объективизации клинических феноменов, симптомов и синдромов привела к существенному пересмотру представлений в психиатрической диагностике. Это было связано в первую очередь с требованием доказательности в психофармакологии и инициировалось исследователями, работающими с крупнейшими фармацевтическими компаниями. Во вторую очередь это связано с глобализацией, быстрым развитием международных контактов психиатров, стимулирующих системы стандартизации диагноза как в описательном, так и в операциональном (критерий времени и критерий течения) плане. Именно это, а также внедрение в медицину методов математического анализа и привело к широкому использованию психометрических шкал, которые отражают операциональный принцип.
Как справедливо указывают А. Е. Бобров, Т. В. Довженко, М. А. Кулыгина, этот принцип заключается в необходимости учета только объективированных (т. е. не зависимых от наблюдателя) критериев аномалий поведения и социального функционирования, а также оценки различных сочетаний (констелляций) этих критериев. Принцип операциональной диагностики в рамках клинико-описательного метода служит задачам повышения надежности категориальной квалификации психопатологических нарушений. Без него были бы невозможными реалистическая квалификация типов и видов психических расстройств, их нозографическое обозначение и постановка валидного и верифицированного психиатрического диагноза. Однако при этом усложняется диагностическая процедура, а на смену клинической интуиции приходит формализованная система учета признаков, которые далеко не всегда вписываются в целостную «психопатологическую картину».
Операциональный подход предоставляет возможность дополнить категориальную квалификацию психического состояния больных количественной и степенной оценкой имеющейся у них симптоматики. Такой подход позволяет также давать взвешенную характеристику так называемым психопатологическим «радикалам» и «спектрам» психических расстройств. Это способствует тому, что различные диагностические категории рассматриваются не как самостоятельные дискретные сущности, а как элементы непрерывного континуума клинически и социально значимых свойств и параметров (например, расстройства шизофренического спектра, тревожные расстройства, зависимости, отклоняющееся поведение и т. п.).
В описательной психопатологии в последние годы наметилась тенденция к объединению категориального (феноменологического) и психометрического (операционального) подходов. Особенно ярко это проявляется в Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств 5-го пересмотра (DSM – V), где психометрическая составляющая стала фактически необходимым компонентом клинико-диагностической квалификации. Однако и такой «мультиаксиальный» подход не лишен серьезных недостатков. Основная методологическая проблема здесь состоит в еще большем усложнении диагностической процедуры, формализации диагноза и снижении его внутренней валидности за счет увеличения потенциально нерелевантных критериев.
Итак, современный этап развития психиатрии характеризуется сосуществованием двух принципиально отличных подходов к диагностике (Крылов В. И., 2015).
Большинство современных научных исследований основывается на мультидименсиональной модели и опирается на операциональные диагностические критерии. Мультидименсиональная модель отрицает наличие четких границ между отдельными диагностическими категориями, между нормой и патологией. Оценка психического состояния проводится по отдельным относительно самостоятельным составляющим, или компонентам.
В практической психиатрии доминирует категориальная модель диагностики. Несмотря на требования диагностических указаний международных классификаций болезней, основанных на операциональном принципе, большинство практических психиатров ориентированы на традиционный дескриптивный, или описательный, подход. Категориальная модель предполагает наличие четких границ между отдельными диагностическими категориями, между нормой и патологией. Клинические случаи, соответствующие критериям нескольких диагностических категорий, рассматриваются в качестве переходных форм либо с позиций концепции коморбидности. Не вызывает сомнений, что будущее клинической психиатрии – в объединении на более высоком уровне познания дименсиольнальных и категориальных признаков с преодолением в очередной раз вынужденного редукционизма на клиническую, биологическую и социальную психиатрию.
РЕКОМЕНДАЦИИ1. Бухановский, А. О. Общая психопатология: атлас к пособию для врачей / А. О. Бухановский, Ю. А. Кутявин, М. Е. Литвак. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЛРНЦ «Феникс», 2013. – 390 с.
2. Власова, О. В. Феноменологическая психиатрия и экзистенциальный анализ. История, мыслители, проблемы / О. В. Власова. – М.: Территория будущего, 2010. – 639 с.
3. Давыдовский, И. В. Проблемы причинности в медицине (этиология) / И. В. Давыдовский. – М.: МЕДГИЗ, 1962. – 176 с.
4. Клиническая психометрика: учеб. пособие / под ред. В. А. Солдаткина. – Ростов-н/Д: Изд-во ГОУ ВПО РостГМУ, 2015. – 312 с.
5. Мелехов, Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни: сборник памяти доктора медицинских наук, профессора Д. Е. Мелехова. – М.: Свято-Филаретовская Московская высшая православно-христианская школа, 1997. – С. 5–61.
6. Менделевич, В. Д. Психиатрическая пропедевтика / В. Д. Менделевич. – М.: Городец, 2019. – 496 с.
7. Савенко, Ю. С. Введение в психиатрию. Критическая психопатология / Ю. С. Савенко. – М.: Логос, 2013. – 448 с.
8. Снежневский, А. В. Общая психопатология / А. В. Снежневский. – М.: Медпресс, 2009. – 122 с.
9. Тиганов, А. С. Общая психопатология / А. С. Тиганов. – М.: Медицина, 2008. – 256 с.
10. Ясперс, К. Общая психопатология / К. Ясперс. – М.: Практика, 1997. – 1053 с.
I.2. Этика и деонтология в психиатрии
Этика (греч. ethika от ethos – обычай, нрав, характер) – термин, принадлежащий древнегреческому философу Аристотелю. Обозначает философскую дисциплину, изучающую вопросы морали и нравственности. Этика может быть общечеловеческой, национальной, личной, групповой (корпоративной). Составной частью является этика «медицинская» как совокупность нравственных норм профессиональной деятельности медицинских работников, внутри же медицинской этики выделяется этика в психиатрии, которая по многим положениям стоит особняком по отношению к этике соматической медицины.
Острота и специфика этических проблем в психиатрии определяются рядом особенностей. У многих психически больных людей нарушены привычные нормы взаимоотношения с социальным окружением. Существующая необходимость защиты самих пациентов амбивалентно и двуедино присутствует с задачами защиты общества от некоторых пациентов с социально опасными формами поведения; проблемными зонами являются необходимость применения недобровольных и принудительных мер к пациентам; проблема стигматизации психически больных, психиатрической службы и психиатрической науки и др.
Деонтология – наука об этических нормах. Деонтологическая этика в философии представлена теориями, придающими особое значение отношениям между долгом и нравственностью в человеческих поступках. Следовательно, деонтология (от греч. deon – долг и logos – наука) основывается на логике и этике. В психиатрической этике, как и в общей, выделяют две теории.
1. Деонтологическая этика утверждает, что основа нравственной жизни есть долг, выполнение которого связывается с внутренним повелением. Нравственность находится вне всякой целесообразности, не служит удовлетворению потребностей человека (И. Кант). Деонтологическая этика формальная, поскольку основной принцип состоит в соответствии любого действия некоторому правилу или закону. Так, христианская этика видит идеальную жизнь человека в повиновении Божественной воле или некоторым позитивным законам, выражающим эту волю. Запрет на аморальное действие содержится в знаменитых Десяти заповедях. Нормы этики, представленные в заповедях, – обязательный и подлежащий преодолению минимум – закон, выше которого благодать. Недостаточен, например, отказ от убийства – нужно «сердце», не принимающее в себя гнева, наполненное любовью. Всеобъемлющим законом нравственности является категорический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относись к нему только как к средству». По Канту, всякая личность есть самоцель и не должна рассматриваться как средство осуществления каких-либо задач, хотя бы это были задачи всеобщего блага. Следуя долгу, человек отказывается от своекорыстного интереса и остается верен самому себе. В школе деонтологического интуитивизма (Г. Причард, Д. Росс и др.) акцент ставится на интуитивно постигаемых человеком «самоочевидных» нравственных обязанностях (не совершать зла, делать добро, распределять добро и зло соответственно достоинству людей, говорить правду, выполнять обещания, благодарить за услуги, возмещать причиненный тобой ущерб, самосовершенствоваться и т. п.). В концепции общественного договора (Дж. Роулс) основным критерием нравственности выступает честность, понимаемая как моральное обязательство индивида действовать исходя из общественно принятых норм поведения.
2. Утилитаристская, или телеологическая, этика считает, что мерой нравственности поступка является его целесообразность. Критерием оценки поступков человека является полезность. В рамках утилитаризма моральное значение поступков устанавливается в зависимости от последствий, к которым они приводят (консеквенциальная этика). Источник нравственности – в естественном стремлении человека испытывать наслаждения и избегать страданий. И. Бентам, основоположник утилитаризма, считал единственной целью моральной деятельности достижение наибольшего количества счастья для наибольшего числа людей. К этому можно прийти путем правильного расчета, посредством «моральной арифметики», с учетом «шкалы удовольствий и страданий». Дж. Ст. Милль, систематизатор утилитаризма, связывал счастье не с количеством, а с качеством удовольствий. Только «высшие» (интеллектуальные) удовольствия соответствуют нравственной природе человека, чувству собственного достоинства. Обе теории присутствуют в реальной жизни, определяя теории, нормы, стандарты в психиатрии, иногда доходя до острейшего диалектического противоречия, например, при оказании помощи душевнобольным, совершающим неоднократные тягчайшие преступления (серийные сексуальные убийцы).
Базисные этические ПРИНЦИПЫ в психиатрии:
1. АВТОНОМИЯ.
● Уважение личности пациента.
● Оказание психологической поддержки в затруднительных ситуациях.
● Возможность выбора из альтернативных вариантов.
● Предоставление необходимой информации (о состоянии здоровья и предполагаемых медицинских мерах).
● Самостоятельность принятия решений пациентом.
● Возможность осуществления пациентом контроля за ходом исследования или лечения.
● Вовлеченность пациента в процесс оказания ему помощи («терапевтическое сотрудничество»).
2. БЛАГОДЕЯНИЕ.
● Лицо, которому мы должны помочь, находится в опасности или под угрозой серьезного ущерба.
● Психиатр располагает реальными средствами для предотвращения этой опасности или ущерба.
● Действия психиатра, скорее всего, предотвратят опасность или ущерб.
● Благо, которое лицо получит в результате действия психиатра, перевешивает ущерб, а сами действия представляют минимальный риск.
● Принцип благодеяния может вступать в противоречие с принципом полезности (для общества).
3. НЕПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА.
● То, что мы намереваемся делать, не должно быть безнравственным.
● Предполагаемый риск не должен быть средством для достижения благой цели.
● Нельзя совершать что-либо безнравственное только потому, что за этим может последовать нечто положительное.
● Побочный эффект не может быть специальной целью, а только тем, с чем приходится мириться.
● Для совершения действия, за которым могут наступать негативные последствия, нужны веские основания (благо должно перевешивать риск или потерю).
4. СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
● Распределение ресурсов здравоохранения (и, следовательно, доступа к ним членов общества) в соответствии со справедливым стандартом.
Рассмотренные выше этические принципы, применяемые в медицине, являются основой для более конкретных этических НОРМ: правдивости, приватности, конфиденциальности, лояльности, компетентности.
Норма ПРИВАТНОСТИ подразумевает обязанность не вторгаться в сферу личной (частной) жизни пациента. Речь идет, во-первых, о недопустимости бесцеремонного вторжения в эту сферу без согласия пациента, что не исключает возможности (а для психиатра и необходимости) деликатного проникновения в мир сугубо интимных отношений; во-вторых, о сохранении за пациентом права на личную жизнь даже в условиях, стесняющих его свободу. Нарушение приватности, не продиктованное строгой медицинской необходимостью, квалифицируется как неоправданный патернализм.











