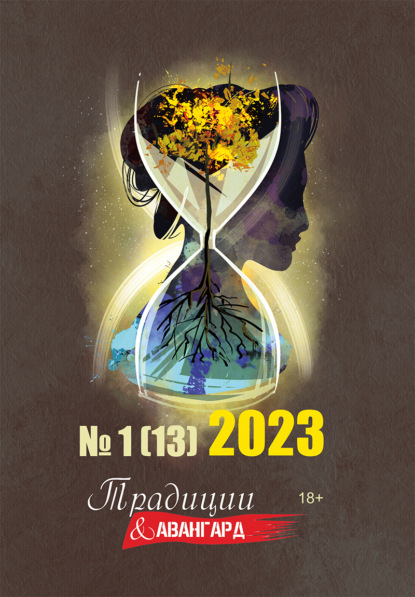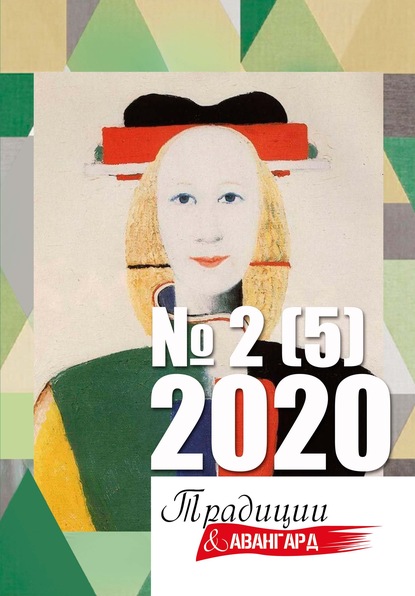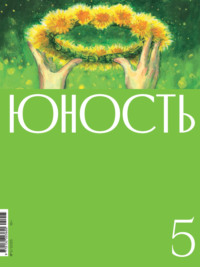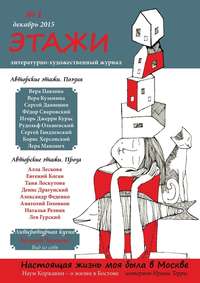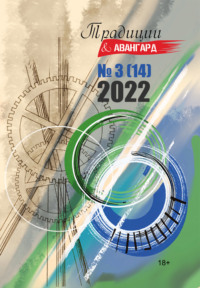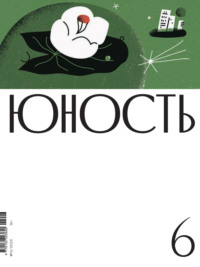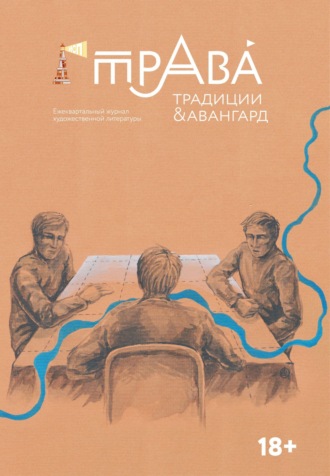
Полная версия
Традиции & Авангард. №1 (24) 2025
И филателистические магазины были… Помню, на пересечении улицы Чехова (Малой Дмитровки) с Садовым кольцом. В новой (шестидесятых годов!) башне на первом этаже. На набережной Тараса Шевченко, рядом с мостом, в большом сталинском доме. Отдел на втором этаже в Доме книги на Калининском проспекте (Новом Арбате). И как замирало детское сердце, когда рассматривал на витринах эти, по сути, клочочки бумаги с картинками из неведомых стран.
Также было и смежное увлечение – нумизматикой и фалеристикой (значки и знаки). Тоже было довольно массовым. Но с нумизматикой было сложнее. Это уже зачастую серебро, золото, валюта. То есть запрещённая законом деятельность. Она всё равно процветала, но как бы по умолчанию. Но о нумизматике московской – позже как-нибудь.
В этом же доме жила семья великого Вертинского. Кстати, величие Вертинского я начал понимать только годам к пятидесяти. До этого так, не сказать, чтоб равнодушно, некоторые песни нравились, но не более. А потом понял весь кайф.
И его дочь, красавица Настя, училась в своё время в нашей школе. Старше, конечно, лет на десять, я её никогда не видел. Школа-то рядом. Спускаешься вниз до конца Козицкого, переходишь на ту сторону Пушкинской улицы (Большой Дмитровки) – и уже, считай, пришёл.
Раньше на месте Совета Федерации были театр «Ромэн» и хозяйственный магазин. И проход к школе – за ними, которая притаилась в глубине огромного двора. Между Большой Дмитровкой, Петровкой и улицей Москвина (Петровским переулком). «Ромэн» потом перенесли на Ленинградский проспект, где гостиница «Советская». Построенная, кстати, по инициативе Василия Иосифовича Сталина для армейских спортсменов.
А на этом месте начали строить огромное административное здание. Строили лет двадцать. Для Госстроя. Начали, когда я ходил класс в третий, пришлось идти в школу уже через Петровку. Закончили уже в середине восьмидесятых, когда уже поучился в инязе, сходил в армию, работал и т. д. Одно время там был кабинет Б. Н. Ельцина. После очередной отставки его отправили руководить строительством. Видел фото, как раз на мою школу окна выходили.
Да, в тот исчезнувший хозяйственный, когда я был классе в третьем, однажды привезли занимательные штуковины. Маленькие баллончики ярко-оранжевого и красного цветов. Стоили они двадцать копеек.
В принципе, это было моющее средство производства Германской Демократической Республики. Ясно, что мы не озаботились вдруг мытьём окон и ванн. Вся эта гадкая жидкость выливалась, баллончики тщательно вымывались. А дальше – самое интересное.
В свинчивающейся чёрной крышке пробивалась гвоздём дырка – и вперёд! Брызгалка готова! Баллончик был удобный, отлично ложился в руку и легко прятался в карман. И начиналось поголовное обливание всех и вся. Визг одноклассниц был слышен до Кремля как минимум.
Мания обливать и обливаться была массовая. В радиусе километра от школы нельзя было спокойно пройти, чтобы не получить струю воды от какого-нибудь притаившегося в засаде малолетнего раздолбая.
Но потом, конечно, вызывали родителей в школу, наказывали наиболее активных, короче, славную инициативу прищучили. А потом мы выросли, развлечения тоже повзрослели, и всё испарилось само собой.
Кстати, первую водку я попробовал именно в Козицком переулке. Там, за театром Станиславского и Немировича-Данченко, прямо за стеной, располагался чудесный сквер. Поперёк переулка. На задворках усадьбы Салтыковых, которая является основой музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.
Он есть и сейчас, только стал намного меньше. Как и везде в этом районе, дворы с садами, домиками, клумбами, одичавшими, но ещё плодоносящими яблонями и грушами – это остатки старинных усадеб.
Раньше там было две беседки. Круглая, такие стояли во многих дворах в центре, в том числе и в моём дворе в Столешниковом переулке, и длинная у стенки. Такие тоже часто встречались. Она была в самом конце сквера, и там, соответственно, молодежь выпивала разные разности и целовалась с барышнями. Причём не только целовалась.
Но речь сейчас не об этом. Мне лет пятнадцать-шестнадцать. И я вдруг с какими-то незнакомыми деятелями, волосатыми хиппарями, решил выпить водки. Первый раз в жизни. Пошли в Елисей, как-то купили, видимо, брали эти ребята, вид у меня всю жизнь и до сих пор детско-юношеский. Зашли в садик.
А стакана нет! И не висит нигде. Раньше же в каждом подобном закутке, беседке, шалаше висел или был спрятан под доску какую гранёный стакан. На всякий случай. А тут – нет. Ужас! И вот я, ребёнок, по сути, давился этой водкой прямо из горлышка. «Из горла» (с ударением на «а»), как говорили. Ощущения мрака и экзистенциальной прострации…
Потом я как-то поехал домой, это был праздник Седьмое ноября, и у станции метро «Площадь Свердлова» («Театральная») я приставал к солдатикам в шинелях из оцепления и объяснял, как надо правильно бороться за мир во всём мире… Не забрали хоть тогда в ментовку.
Хотя я должен был проходить 17-е отделение милиции. Оно на углу улицы Москвина (ныне Петровский переулок) и Пушкинской улицы (ныне Большая Дмитровка). Отдел полиции какой-то там находится до сих пор. А так оно существовало с двадцатых годов точно. То есть этой ментовке уже лет сто. Мало осталось в Москве учреждений со столетней традицией на одном и том же месте.
Кстати, это было единственный раз в жизни, когда я пил водку по цене три шестьдесят две. Больше я её не встречал потом. Эта цифра стала легендарной в своё время, неким кодом, паролем. Присказкой в анекдотах и разных историях. До этого цена водки была два восемьдесят семь. Но этого я, конечно, не помню. Тогда водка официально не дорожала, но просто вводили в ассортимент другую, с другим названием: например, «Русская» по четыре двенадцать или «Старорусская» по четыре сорок два.
Вообще весь квартал, ограниченный по бокам Козицким переулком, улицей Станиславского и Немировича-Данченко (ныне Глинищевский переулок), а вдоль – улицей Горького (Тверской) и Пушкинской улицей (Большой Дмитровкой), назывался Бахрушинской, или – короче – Бахрой (с ударением на «о»).
Понятно, что большинство домов там выстроили знаменитые купцы Бахрушины. Ими в Москве сооружено множество домов. Например: Вдовий дом на Софийской набережной, где сейчас «Роснефть», больница в Сокольниках и, конечно, театр Корша на улице Москвина (в Петровском переулке). Там был и филиал МХАТа потом, сейчас – Театр наций. Очень глупое название, опять орусаченная английская калька. Ну да ладно.
Алексей Александрович Бахрушин, почётный гражданин Москвы, создал и Театральный музей, который находится в Замоскворечье, на улице его имени.
Я люблю Козицкий переулок. Хотя если смотреть на него с противоположной стороны улицы Горького, то он – просто щель между домами.
Лаз. И этот лаз сохранился. Избыток бабла в природе уничтожил многие потаённые закоулки и дворики города. Они стали стерильно чисты. Это тоже неправильно. Потерялась душа места. В детстве должны быть тайны, заброшенные чердаки, домики с подземными ходами, о которых никто не знает. Кроме тебя и твоих друзей. Они естественны для Москвы.
Сейчас же нажми кнопку в Интернете – и целый список «тайных» мест. Это нечестно. И лицемерно.
А ведь таких переулков было много в центре, они были как бы продолжением квартиры. То есть, переходя из комнаты в коридор, ты очутился бы на улице. И вёл бы себя так же, как дома. Сейчас квартиры, наоборот, клетка, защита от внешнего мира.
А тогда дворы, переулки – часть дома. Домашние. Козицкий – это коридор в общей квартире, в которой жило большинство моих одноклассников.
Вот здесь, справа, если смотреть от улицы Горького, жил Лёша Ефремов. Когда дом красили, то мы от него бегали за портвешом в Елисей по строительным лесам. Просто выходили в окно и спускались. Это было быстрей, чем через лестницу и подъезд.
Здесь решил поместить свой рассказ. Он был опубликован в 2019 году в книге «Воскрешение на Патриарших». Там действие происходит именно в Козицком переулке. Правда, кафе этого уже нет, увы. Итак, рубрика
НИ К СЕЛУ НИ К ГОРОДУ – 1Счастливый бегемот– Ну что же такое… Посмотри внимательно! Разве этот бегемот счастливый?! – Денис вздрогнул и очнулся. Чуть сбоку, через пару столиков, стояла молоденькая полноватая девушка в белом фартуке с оборками под декаданс. Рядом с девушкой елозил на стуле его пятилетний сын Вовка. Собственно, восклицание барышни в фартуке относилось именно к Вовке. Сегодня была суббота, и Денис привёл сына в кафе, где детей обучали лепке из настоящего шоколада. Тема для лепки, а здесь старались проводить тематические детские тусовки, называлась «Счастливый бегемот». Примерно семь малышей, отягощённых родителями, пыхтя, мяли шоколадную массу. Изредка из детских ручонок вываливалась какая-то жуткая фигурка типа куска колбасы с ушами-блинами. Как сейчас у Вовки. Вот именно об этом чудище и говорила девушка как о не очень счастливом бегемоте. Зато эту отвратительную колбасу можно было периодически откусывать-облизывать, и это был ключевой момент в шоколадном творчестве.
– Понимаешь, счастливый бегемот должен радоваться жизни! Улыбаться, скакать, веселиться, а у тебя он получился какой-то грустный! – Девушка терпеливо взяла колбасу с ушами и стала руками в резиновых перчатках аккуратно придавать массе отдалённое бегемотье очертание. «Вот счастливый бегемот! Что он нам несёт…» – завертелась песенка в голове у Дениса.
Вовка кивал, следя за ловкими движениями девушки. Малышня вокруг галдела. Родители обречённо улыбались.
Денис был в этом кафе впервые. Обычно Вовку водила сюда Марина, его жена, а сейчас она закрутилась и сопровождать отпрыска отправился он. Собственно, это Вовка привёл его сюда, а не наоборот. Кафе располагалось в Козицком переулке, в подвале, и, когда Денис спускался по крутой лестнице в зал, какое-то смутное воспоминание мелькнуло у него внутри. Но до времени исчезло. В окне под потолком мелькали ноги прохожих, и, казалось, яркое солнце стучится в стекло. «Счастливый бегемот… не курит и не пьёт… – барабанил пальцами по столу Денис. – Интересно, а я счастливый человек?! Дурь какая… И вообще я был счастлив когда-нибудь?!» Денис зачем-то осмотрелся вокруг. Малыши продолжали целеустремлённо сопеть и гудеть, иногда даже взвизгивали от радости, если в их детском мозгу возникала какая-нибудь новая идея о конструкции бегемота. «А что?! У меня всё хорошо. Вот Вовка. Дома Марина. Прекрасная жена, именно такую я и хотел всегда. Вовка, правда, получился поздний ребёнок. Ему сейчас пять, а мне – полтинничек. Но ведь это счастье. Наверное. Откуда такие мысли дурацкие про “наверное”?! – Взгляд Дениса продолжал бродить по закоулкам кафе, словно ища что-то знакомое. – Стоп. Ну конечно! Вспомнил! Надо же».
В этот момент луч солнца всё же вбежал в пространство подвала, пошарил по стенам и, не найдя ничего интересного, выскочил наружу. Хлопнула дверь, на лестнице появился Илья. Денис дружил с Ильёй ещё со школы, они общались урывками, то сходились, то, не ссорясь, расходились. Но оба всегда были рады встречам, хотя уже давно между ними не было точек соприкосновения. Кроме одной, корневой – детства. И каждый раз, вне зависимости от того, сколько лет они не виделись, у них продолжался тот единственно важный разговор, начатый лет сорок с чем-то назад на ступеньках школы. Она располагалась тут же, неподалёку, в переполненном тополями и китайкой старомосковском дворе. Тогда их, перепуганных суетой малышей, торжественно вводили в жизнь через школьные двери.
– Привет. Привет, Вовка! – Илья отодвинул стул и, присев, помахал рукой мальчугану. – Надо же, в приёмке кафе сделали, чудеса!
Илья был немного взъерошен, его чуть кудрявые волосы вздыбились, было видно, что он выпил. Нет, он был не пьян, а балансировал между «слегка приложился» и «понесло».
– Надо же, – удивился Денис. – Сразу узнал. А я – нет. Час просидел, думал о счастье. А потом вдруг сообразил, что кафе это в бывшем приёмном пункте посуды сделали!
– Что звонил, по делу или так, повидаться? Счастье… Явно стареем, о всяких глупостях начинаем думать. Есть тут что- нибудь туда-сюда? – Илья листал меню. – Ну и к каким неутешительным выводам пришёл ты в размышлениях о счастье?
– Просто повидаться. А так… дурь всякая в башку лезет. Человек – всё-таки скотина дикая. Вот ведь есть Вовка, есть Марина, которую я люблю по большому счёту. Да и без всякого счёта люблю. Работа есть. Не бедствую совсем. А сам думаю: счастлив я или нет? И, знаешь, какой бред меня посетил? Что по-настоящему я был счастлив только один раз! Причём в детстве. И причём именно здесь!
– В смысле?!
– Я не помню, какой это был класс. Третий, четвёртый? В «Детском мире» вдруг стали продавать индейцев. Помнишь, такие клёвые резиновые гэдээровские фигурки? Это было что-то! Айфон любой – чепуха по сравнению с индейцами! Хотелось жутко. А денег нет. И ясно, что завтра их уже не будет в магазине, расхватают. Кошмар. Понятно, что родители на такую глупость денег не дадут. Да и не очень с деньгами у нас было, ты знаешь. А нужно было много. Где-то три пятьдесят, что ли, стоил набор.
– Пожалуй, граммов сто пятьдесят вискарика я заглочу. И всё. Иначе отплыву. В дальние страны. Ну и где взял бабки? Кстати, смешно сейчас, но это прежняя месячная квартплата! – Ну да. Примерно. А я помчался по дворам, по скверам, по бульварам. Собирать бутылки. Пустылки, как тогда говорили. Двенадцать копеек – поллитровая, семнадцать – ноль семьдесят пятая. Короче, метался почти сутки, набрал штук тридцать. И вот, обвешанный авоськами, я потащился в приёмный пункт. Сначала – в Столешников, в винный. Не берут. Мол, маленький ещё – посуду сдавать. Я чуть не в слёзы. Потащил наверх, к церкви. Там закрыто. Тары нет. Как всегда. В «Минеральные воды» на Горького. Но там взяли только пару штук из-под воды. А у меня в основном водочные и винные. Отчаяние прямо. Что делать?! Представь, десятилетний пацан таскает на себе полтора ящика пустой посуды. Но индейцы, сам понимаешь! Короче, пришёл сюда. Очередь – километр, опять тары нет. Реву. Вдруг старичок, такой благообразный, подходит: мол, что ревёшь, дурашка? Рассказал. Он улыбнулся, у него ещё аккуратная седая бородка, глаза добрые, прозрачно-голубые, как сейчас помню, достал эти три пятьдесят из кармана и отдал мне. Мол, ему всё равно стоять здесь, он и мою посуду сдаст. Отдал я ему всё вместе с сетками и бегом в «Дэ-Эм». Купил индейцев! Иду вниз по Пушечной, весь свечусь! И вот до сих пор помню это чувство. Сердце и замирает в груди, и одновременно где-то поверх крыш плывёт. И люди на тебя оборачиваются и улыбаются! Вот так было. Ну а ты?
– Знаешь, Дениск… – Илья взял стакан и медленно, присматриваясь, повертел его перед носом. Солнце, попадая на остатки виски, наполняло его густо-коричневым цветом, отчего совершенно простой стакан становился тяжёлым и значимым. – Меня всегда интересовали части, осколки целого. Не целое. Например, в книгах. Недавно, к ужасу, понял, что не знаю, чем закончился роман «Идиот». То есть понимаю чем, но не знаю наверняка. А фильм даже смотреть не стал. А ведь я люблю эту книгу! Очень. И часто перечитываю куски, иногда – жадно, как с похмельной жажды, иногда – медленно, ловя кайф от сочетаний слов. Для меня это как частички жизни. А общий смысл, итог неважен. То есть важен, но он понятен. Или я просто так устроен?! Понимаешь?
Денис молча смотрел в сторону Вовки, но, услышав вопрос, кивнул. Илья тоже кивнул ему и продолжил:
– И вот ещё что. Оказывается, эту жизнь можно было прожить с кем-то. В смысле, разные её части – с разными людьми. Нет, не так. Разные люди очень хорошо подошли бы к разным эпизодам жизни. Например, с Алиной одной хорошо было бы жить лет в тридцать пять – тридцать семь в Переделкино, в своём доме. Она писала хорошую прозу, и такое литературное место ей бы было в кайф. Да и мне нравятся тамошние околописательские улочки. То есть именно в этот отрезок жизни, понимаешь? Ни раньше, ни позже. А вот с Иркой хорошо было бы жить лет в сорок на Малой Бронной. Ходить в кафе и ни фига не делать. И так можно всех моих баб по жизненным полкам рассовать. Но самое интересное в другом. Я реально мог всё это осуществить в те годы. И по деньгам, и по отношениям. Но этого не произошло. И сейчас мне уже абсолютно не нужны ни трёшка на Бронной, ни особняк в Переделкино. Просто не надо. Попытаюсь сформулировать. Определённая женщина нужна в определённый момент жизни. Возраст должен соответствовать месту и человеку.
– Умно, – усмехнулся Денис. – А счастье? Счастье-то было или как?
– Счастье… – продолжил вертеть стакан Илья. – Понимаешь, сейчас, только сейчас я понял, что за всю жизнь меня любил всего один человек. Мне было двадцать пять, ей – тоже. Удивительно, но мы родились в один день, в один год. Любил ли я её тогда? Не знаю. Но то, что она меня любила, – это точно. У неё были зелёные глаза, и однажды они превратились в голубые, когда мы целовались с ней в садике у памятника Алексею Толстому на Никитских воротах. Представляешь, какое чудо? А почему не вышло, почему я тогда на ней не женился? Наверное, мне было трудно представить, что это именно и есть тот самый человек, на всю жизнь. А вдруг что-то другое появится? И я ждал. Ждать – естественное состояние человека. Но ничего не произошло. Никто, подобный ей, тогда, в наши двадцать пять, не появился. Вот моё счастье тогда и было, это уже очевидно. Точнее, это были ворота в счастье, в которые я так и не зашёл.
Остатки виски задрожали в стакане. Илья резко допил и махнул официантке, видимо, желая заказать ещё. Потом подумал и отрицательно покачал головой подошедшей девушке. – Не попался мне тогда Николай Угодник, который сделал бы всё как до́лжно. Как тебе здесь, в приёмке посуды.
– Какой Николай Угодник?! – удивился Денис.
– Обычный. Мирликийский. Ты описал в точности, как выглядит Святой Николай Угодник на иконах. Судя по всему, он и дал тебе трёшку на индейцев.
– Да ладно тебе чушь молоть! Обычный дед.
– Ну не верь. Ладно, пошёл. А то опять нажрусь. Что-то в последнее время затягивает. Интересно, ты – про глаза голубые деда, я – про голубые глаза Риты. Может, это одни и те же глаза были, а я не понял?! Или я уже напился?!
– Я тебя провожу, – поднялся Денис.
– Не надо.
– Да я до угла. Пройтись и вернуться. Хочу на Вовку со стороны посмотреть. Не верится до сих пор, что это мой сын.
На углу Козицкого переулка друзья расстались. Илья пошёл направо, по направлению к Пушкинской. Он брёл, пошатываясь, у него развязался шнурок. Денис хотел было догнать друга, сказать, но Илья вдруг увидел это сам. Он поднял ногу на парапет у витрины Елисеевского магазина и, путаясь в пальцах, попытался завязать ботинок. Это у него не вышло, и он просто заткнул шнурки внутрь и, покачиваясь, пошёл дальше.
Он думал о том, как сейчас попадёт домой, где его встретит усталая и высохшая от жизни жена Маргарита, та самая девушка Рита, на которой он не женился в двадцать пять. Но отыскал в сорок восемь и уговорил уже совершенно чужого ему человека выйти за него замуж. И начался кошмар, от которого Илья бежал в стакан.
Денис всего это не знал и шагал назад, в шоколадное кафе. Козицкий переулок разделялся чётко пополам огромной косой тенью от громадных бахрушинских домов. У тротуара, на границе светотени, стояла красная «феррари». Спортивная, почти игрушечная. Внутри на зеркале, рядом с Георгиевской ленточкой, на тесьме с бусинками вертелась иконка.
Денис думал об Илье, о его неслучившемся счастье, о том, что всё-таки нехорошо, когда и посуда пустая, и Марина, и Вовка соединились у него в голове вместе.
Взгляд его задумчиво поднимался по водосточным трубам всё выше и выше, наконец под самой крышей вспугнул голубей. И они, недовольно фырча, устремились в узкую щель московского неба.
У входа в кафе, переминаясь с ноги на ногу, его уже ждал Вовка. Рядом стояла молоденькая, чуть полноватая девушка в белом фартуке с оборками под декаданс и держала в руках завязанный розовой ленточкой прозрачный пакет с бурой массой внутри. На пакете скотчем была приклеена бумажка «Счастливый бегемот».
Вот такой рассказик. Но кафе на месте приёмки посуды уже тоже нет. Быстро всё стало меняться. Увы.
Продолжаем…
Глава первая
Улица Горького – Тверская. От Пушкина до Юрия Долгорукого… Окрестности
Люблю я Козицкий. Если спускаться вниз от улицы Горького (Тверской), то в самом конце слева, на пересечении с Пушкинской улицей (Большой Дмитровкой), стоит примечательный дом. Стоит он на месте разрушенного в 1934 году храма.
Но тем не менее дом выдающийся. Он странный. В хорошем смысле странный. Смесь конструктивизма и классицизма.
Я часто вспоминаю слова Эдуарда Лимонова о том, что сталинская архитектура – это наш Древний Рим. В ней есть и массивность, добротность архитектуры того периода, и одновременно лёгкость и воздушность. Удивительный, огромный, совершенно античный балкон с колоннами наверху. Он считался глухим, но Вика Волкова, одноклассница моя, рассказывала, что можно пройти тайными тропами на этот волшебный балкон. Красивая была Вика.
А внизу до нашествия кабаков на Москву, которые завоевали и принудили к сожительству весь центр столицы, была известная парикмахерская. Лет семьдесят была.
Помню Викину квартиру с окнами на переулок и Пушкинскую улицу. Бабушка Вики, которая и получила чудесную квартиру в доме-башне, была непроста. Её звали Мария Ивановна Виноградова, известнейшая в тридцатые годы ткачиха, передовик стахановского движения в ткацкой промышленности.
Вместе со сменщицей и однофамилицей Дусей Виноградовой она умудрялась работать сначала на 20, потом на 70, затем на 140 и в конце на 240 ткацких станках. Было такое соревнование трудовое, которое распространилось по всей стране.
Такое сейчас трудно вообразить, но тогда топовыми новостями на радио, в прессе, просто в людских разговорах были рекорды двух скромных ткачих. И девушки, в том числе и Мария, были настоящими народными героями. Собирательный образ Марии и Дуси Виноградовых воплотила великая Любовь Орлова в фильме «Светлый путь» 1940 года.
Кстати, именно в этом фильме режиссёра Григория Александрова впервые прозвучала грандиозная песня «Марш энтузиастов», написанная композитором Исааком Дунаевским на слова поэта Анатолия Д’Актиля (псевдоним Анатолия Адольфовича Френкеля). В финале её поёт именно Любовь Орлова.
В буднях великих строек,В весёлом грохоте, в огнях и звонах,Здравствуй, страна героев,Страна мечтателей, страна учёных!Ты по степи, ты по лесу,Ты к тропикам, ты к полюсуЛегла родимая, необозримая,Несокрушимая моя!Припев:Нам нет преградНи в море, ни на суше,Нам не страшныНи льды, ни облака.Пламя души своей,Знамя страны своейМы пронесёмЧерез миры и века!Нам ли стоять на месте!В своих дерзаниях всегда мы правы.Труд наш есть дело чести,Есть дело доблести и подвиг славы.К станку ли ты склоняешься,В скалу ли ты врубаешься —Мечта прекрасная, ещё неясная,Уже зовёт тебя вперёд.Припев.Создан наш мир на славу, За годы сделаны дела столетий.Счастье берём по праву,И жарко любим, и поём, как дети.И звёзды наши алыеСверкают небывалыеНад всеми странами, над океанамиОсуществлённою мечтой.Припев.Именем Марии Ивановны Виноградовой названы улицы в разных городах и пароходы. Четыре ордена Ленина, Герой Социалистического Труда, депутат. Я её помню плохо. А Вика Волкова, её внучка и моя одноклассница, повторю, была очень красивая. Потом она училась со мной в инязе, на год старше. Потому что я с первого раза не поступил в МГПИЯ.
Там же жил артист Евгений Александрович Моргунов. Знаменитый Бывалый из легендарной «Операции “Ы”» Леонида Иовича Гайдая. В артисты он попал благодаря письму к Сталину, в котором рассказал, что очень хочет стать артистом, но его не берут в театральное училище. После письма его сразу взяли в мастерскую Таирова, а затем и во ВГИК.
Его сын Антон учился в нашей школе, лет на пять младше. Был шустрым мальчиком, поэтому папу часто вызывали в школу. Папа приезжал на старом «уазике», который называли «козлом». Маленький, неудобный. Сценку, как оттуда вылезал огромный, ростом за метр восемьдесят, Евгений Александрович, надо описывать отдельно.
Она достойна лучших фильмов Гайдая. В несколько приёмов, кряхтя и сопя. Кстати, непонятно, почему он приезжал на машине?! От дома до школы пять минут пешком. Ну семь. Это максимум.
Ну а далее разворачивалось продолжение спектакля. Точная копия «Операции “Ы”». Когда Бывалый перед ограблением склада боксирует грушу. И, запыхавшись, протирает лысину платком.
Тут было то же самое. Огромный понурый Моргунов, рядом – опустивший голову Моргунов-младший, а учительница отчитывает и старшего, и младшего. Евгений Александрович волнуется, лысина потеет, он вздыхает, достаёт платок, по-моему, даже красный, как в кино, и грустно вытирает пот. А мы все, хихикая, смотрим на спектакль из-за угла!