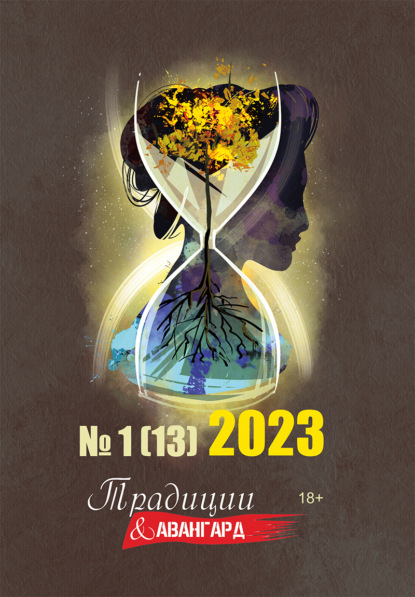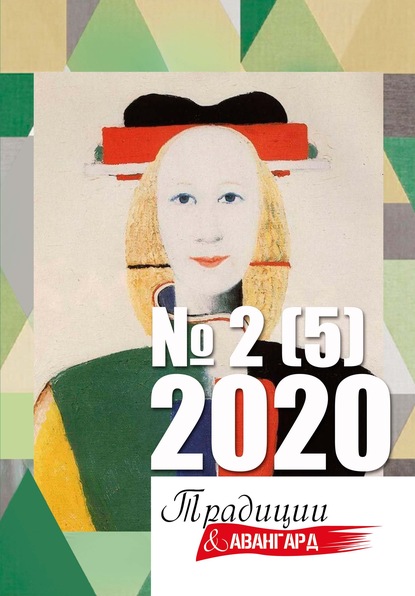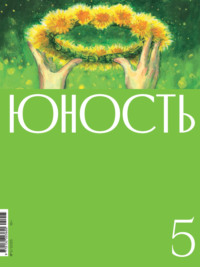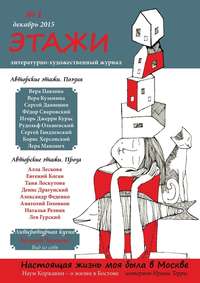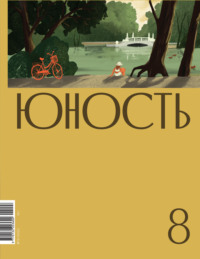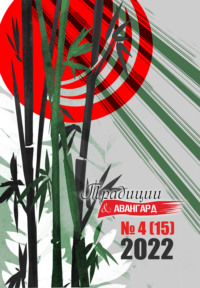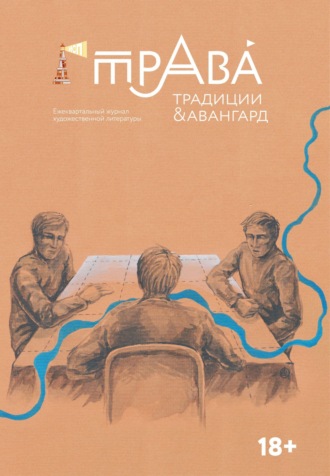
Полная версия
Традиции & Авангард. №1 (24) 2025
«грязь январская…»
грязь январскаяза пределами блиндажачеловек не прощаетсяуходит без багажаговоритвсё что нужно имеется в рюкзакеа потом вдруг шутит мол налегкеумирать сподручнейведь даже ручную кладь разрешатему вряд ли с собою взятьчеловеку этому около тридцатиему по полю пашенномупредстоит ползтиогибать терриконью тушупоросшую бурьяно́м когда в зале перед концертомвключается метрономя всегда вспоминаюкак папа меня училясноглазый папапришедший домой с ночиговорил своей попрыгунье и дерезето что я хочу сказать тебе до БЗне шути со смертьюона с юмором не в ладахмой отец был долгов её любимейших сыновьяхуважално голову не желал склонятьназывал еёкогда пили за павшихматькаждый разкогда в ночь на шахту он уходилто спускался по лестницене касаясь перилтак легко онсмертныйспускался навстречу ейчеловек осознавшийчто со смертью одних кровей29 января 2025 года
Саше
Не надо слёз, от них невмоготу. Таращу глаз на зданий наготу, на их нутро, разбитое снарядом. Течёт из крана рыжая вода. Мне дед мой обещал, что никогда… А вышло вон как. Град спешит за градом.Над ухом дрон. В народе – комарьё. Был раньше дом. Теперь нам лишь жильё снимать в чужих дворах под звёздами чужими, но под ногами вертится земля. Мы всё равно с тобой одна семья. Я помню, что заранье знала имя…Ты мой Адам. Мальчишка среди звёзд. И между нами не один блокпост.И что ещё придумали там люди, чтоб разлучать горящие сердца. Моё – в сплошных уродливых рубцах. Твоё – златое яблоко на блюде.И всё осталось в памяти моей, наш город-сад, ещё не мавзолей. Скамейка, путь до школы и обратно. Зачем нам эти опыт и тоска, седая прядь у нервного виска… Мне до сих пор, мой милый, непонятно.31 января 2025 года
«Кто умирал, тот знает наперёд…»
Кто умирал, тот знает наперёд,как треснет лёд, как перекосит ротот крика, низведённого до стона.И неба южнорусский купоросзадаст последний на земле вопрос.А дальше только нега да истома.А помнишь, как вы «на изжоге»[6] шлипо выжженной степи, по нелюбви,по двум параграфам учебника? На танках.И было всё прозрачно и светло.И сердце русское за горизонт вело,особо не печалясь об останках.О смерти разве думает герой,когда он на доске перед туройстоит. Ни дать ни взять простая пешка.И падала подбитая ладья…А во дворах теперь играет ребятняв войнушку, и твою усмешкуприклеивает к собственному рту.– Приём-приём, мы взяли высоту.Я так хочу, чтоб ты гордился ими.У вас же есть там наверху какой-то чат?Смотри, здесь целый выводок волчат.Они все носят твоё бронзовое имя.2 февраля 2025 года«Любовь – сфумато на полотнах Леонардо…»
IЛюбовь – сфумато на полотнах Леонардо,мелодия и тайна перикарда.Мне было тридцать в тот последний год,когда война – ещё всего лишь слово,вдруг зазвучало, словно бред душой больного,и чем-то красным перепачкало мой рот.Я подмечала зрением момента,как пропадают из ассортиментапривычной марки сигареты и чулки.Как улицы пустеют и сиреныпугают тех, кого мы позже пенойвоенных дней окрестим. В дневникиони попали вопреки той боли,которую на мерзком валидолемы пережили в первый год войны.Да так и остаются на страницахмоих друзей теперь чужие лица.Но только я их почему-то со спиныпривыкла вспоминать за эти годы.Но иногда в случайном пешеходетвои черты – глаза и седина.И кажется, что не было разлуки.И ты, такой премудрый, близорукий.И я в тебя полдня как влюблена.IIСейчас мне сорок – возраст бестолковый.И между нами долгий ледниковыйпериод тишины. Погибший звукнемстителен, но в январе в двадцатыхя непременно выхожу пернатыхкормить. И не отдёргиваю рук.Они клюют с моих ладоней зёрна,и прошлое, что стало стихотворным,как будто бы чуть менее саднит.Как будто бы его почти не жаль мне.Ну сколько можно гнать исповедальныйсловесный волокнистый оргалит.И видеть сны о том, что не случилось.И в будущем обозревать унылость —в прожилках камень, на плечах ярмо.А что война? Мы примирились с нею.Она порой поёт, как Лорелея,а иногда садится у трюмои просит расчесать её тем гребнем,который ты мне подарил в последнийперед отъездом чёрный-чёрный час.И я чешу ей спутанные космы,не вспоминая, как однажды космоспросвечивался звёздами сквозь нас.5 февраля 2025 годаМосковская Москва
Главы из книги
Владимир Казаков
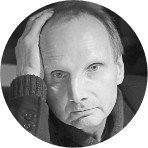
Казаков Владимир Игоревич проживает в Москве. Писатель, журналист, драматург. Президент межрегионального общественного движения по защите, сохранению и развитию русского языка, отечественной культуры и традиционных духовно-нравственных ценностей «Русская речь». Автор нескольких книг художественной прозы, в том числе «Роман Флобера» (2013, Центрполиграф), «Воскрешение на Патриарших» (2019, Гордец). Автор бестселлера «Московская Москва» (2025, Зебра Е).
Предисловие
В книге «Московская Москва» я безапелляционно заявил, что центром Москвы да и, что там мелочиться, всего мира является Пушкинская площадь. Красная площадь слишком торжественна, официальна. Ну и вообще, до неё надо ещё идти. А Пушкинская – вот она. Именно так я рассуждал в детстве.
Прошли десятки лет, мир изменился, мы изменились, а о Пушкинской площади я по-прежнему думаю точно так же, как и в те далёкие годы. Именно здесь находится и движет и нашей планетой, и всей Вселенной мировая ось.
Вершина оси Мироздания – памятник Пушкину.
Именно здесь, у оси, при открытии памятника другой великий русский человек, Фёдор Михайлович Достоевский – они оба москвичи, кстати, что нередко забываем, – произнёс знаменитую речь, в которой обрисовал грядущие судьбы человечества.
Советские учёные перевели метафизику в физику, посчитали на надёжной логарифмической линейке и скорректировали местоположение оси Мироздания. На 104,4 метра.
Именно на такое расстояние перенесли памятник А. С. Пушкину с Тверского бульвара на место колокольни Страстного монастыря, уничтоженного в тридцатых.
Кстати, на втором этаже колокольни находился храм Алексея Божьего человека, который освятил сам святой Филарет, Митрополит Московский. Который, в свою очередь, состоял в поэтической переписке с Александром Сергеевичем. И духовно окормлял его. И всё это, по моему твёрдому убеждению, подтверждает пушкиноцентричность Вселенной.
Да и, кстати, сам я всю жизнь – раньше чаще, сейчас реже – встречался с друзьями, любимыми девушками, просто знакомыми у правой ноги поэта. У левой – редко. Короче, воплощал тезис Хлестакова, а значит, и Гоголя: я «с Пушкиным на дружеской ноге…». Точнее, у дружеской ноги.
Вы уже спросили себя: зачем Казаков пишет всю эту ересь?! Во-первых, ну не совсем же это ересь, так, чуть-чуть. А ведь кто его знает, может, и чистая правда.
А во-вторых, я начал новую книгу. «Московская Москва – 2, или Московские хроники». Продолжение предыдущей? И да, и нет. Понимаете, «Московская Москва» написана так, что её можно читать с абсолютно любой страницы. Стало быть, какое может быть у неё продолжение?! Просто я продолжаю рассказ о моей Москве.
И опять пойду шляться по городу от Пушкинской площади. От центра Мироздания. Потопаю по улице Горького, ныне Тверской, в сторону Кремля, потом – назад до Пушки. И потом до Белорусского вокзала. А дальше посмотрим. У нас ещё есть Садовое кольцо.
Прокачусь по нему на «Б» потом. Ведь прежний троллейбус, а ныне московский электробус – это прямой потомок извозчика.
Не такси, а именно троллейбус/автобус. У такси совсем другая скорость, невиданная в прошлые века. А вот троллейбус движется, по сути, примерно так же, как и старинный городской извозчик.
Можно меланхолично глазеть по сторонам, иногда задерживаясь на перекрёстках, и лететь потом вперёд на коротких пространствах свободных улиц.
Но это так, к слову. Теперь вперёд. Ну или назад. По времени. Хотя, прожив практически всю жизнь в Москве, я твёрдо знаю, что в Москве ничего не исчезает. Всё продолжает жить на своих местах, не только на улицах, в переулках, проходных дворах и на крышах, но и в воздухе, в особом московском небе. Надо только присмотреться и увидеть.
В тексте книги у меня будут вставки. Вроде как впрямую не связанные с текстом, но вкривую – ещё как связаны. Это мои статьи, заметки, мемуары других людей по поводу места и времени, ну и всякая ассоциативная чепуха. Я это назвал «Ни к селу ни к городу». Хотя чепухи здесь хватает и без вставок. Ну да ладно. Всё равно эти «отклонения от генеральной линии» – всегда о Москве, такие «Московские хроники».
А пока перед нами – улица Горького (Тверская).
Кстати, вспомнил из детства. Однажды в Столешниковом переулке, у нашей подворотни дома № 14, ко мне подошли двое. Взрослые. Мужчина и женщина. По виду явно приезжие. Тогда это сразу можно было определить. Сейчас – сложнее. Короче, они меня спрашивают:
– Как пройти на улицу Максима Горького?
И я завис. Начал думать, где же тут такая улица, Максима Горького…
Так и не вспомнил. Пожал плечами. Прохожие ушли. И только минут через десять меня осенило! Ведь улица Максима Горького – это родная улица Горького! Как же я не сообразил?! Но ведь по-московски нет никакой «улицы Максима Горького»! Я же прав. Был.
25.06.2024
Глава первая
Улица Горького – Тверская. От Пушкина до Юрия Долгорукого
Долго думал: а какая главная точка отсчёта на улице Горького – Тверской? Главное здание? Я неспроста ищу начало системы координат. Это касается и самой Москвы, и мира вообще, теперь и конкретной улицы. Если это место находишь, ну, точнее, обозначаешь…
Нет, всё-таки находишь. Причём внутри себя. Потому что это место было найдено, определено для себя давным-давно, в детстве. Когда я только начинал узнавать мир через Москву. Через её улицы, дворы, переулки, мемориальные доски знаменитым людям, через пожилые, но молодящиеся кариатиды, поддерживающие обветшалые балкончики, через магазинчики и ателье, через бетонные нашлёпки Осоавиахима на фасадах стареньких домов, через древние столетники на широких подоконниках московских окон, через людей, через москвичей.
Я ребёнком интуитивно нащупывал те невидимые нити, которые стягивают в точку пространство города в этом месте. Собственно, и формируют суть улицы или переулка.
В родном Столешниковом переулке таким был дом № 9, напротив моего дома № 14. Там жил Владимир Алексеевич Гиляровский. На Петровке таковым является совсем не Большой театр, при всём своём бесспорном величии, а Высоко-Петровский монастырь.
И на улице Горького (Тверской) – это не дом генерал-губернатора/Моссовета/мэрии (многовековой центр московской власти) и даже не величественный Московский телеграф, изумительное творение Рерберга с вращающимся земным шаром, не книжный магазин «Москва», не великолепный памятник князю Юрию Долгорукому работы С. М. Орлова, а именно Гастроном № 1 – Елисеевский магазин.
Для меня в детстве Елисеевский – это живое воплощение сказки. Каждый раз, когда я входил в этот огромный зал с высоченными потолками, громадными бронзовыми люстрами, китайскими вазами там и сям, с окутывающим сразу и навсегда ароматом молотого кофе, сердце замирало от… Не знаю, как описать. От волшебства происходящего, что ли.
Тот список слайдов под названием Детство, которые видит человек уже в возрасте, у меня включает крутящийся голубой земной шар на Центральном телеграфе, иллюминация с салютом на Седьмое ноября, фильм «Сказка о царе Салтане» на огромном экране (31 на 11,5 метра) в кинотеатре «Мир», где тридцать три богатыря поднимаются из воды, и, конечно, Елисеевский.
Обычно в детстве я входил в Елисеевский со стороны Козицкого переулка. Там, где за тяжёлыми двойными дверями, сбоку от небольшой беломраморной лесенки, тебя встречали бронзовые негритята с факелами.
Историю, почему вход в шикарный магазин прорубили с переулка, описана Гиляровским в деталях. Но, короче говоря, речь шла о запрете продажи спиртного на определённом расстоянии от храма. А напротив, на другой стороне Тверской, именно и находилась церковь Св. Димитрия Солунского.
Казалось бы, далеко от Елисея. Но. Не забывайте, что Тверская тогда была много уже, чем сейчас. Примерно шириной с Большую Дмитровку / Пушкинскую улицу. Это только в конце тридцатых расширили улицу до сегодняшнего состояния. Так что храм Димитрия Солунского был от Елисеевского очень близко.
Судьба самого Григория Григорьевича Елисеева и его семьи – это трагедия шекспировского уровня. Он купил обветшавший дворец, построенный в конце восемнадцатого века, для Екатерины Козицкой, дочери уральского промышленника Ивана Мясникова и жены статс-секретаря императрицы Екатерины Второй Григория Козицкого. По Козицкой или, скорее, по её отцу Григорию и назван чудесный, один из любимых переулков в центре. Я чуть позже расскажу. Но известность этот дворец получил во время княгини Зинаиды Волконской. Он перешёл к ней через кучу родственников.
Я видел план этого дворца. По сути, он почти точно повторяет здание на Страстном бульваре. В котором раньше находился первый Английский клуб (позже его перенесли на Тверскую. Там, кстати, в 1812 году останавливался оккупант (да, да, мы забываем такие вещи!), французский офицер, писатель Стендаль). Позже там была Екатерининская больница, сейчас – Московская городская дума. Так вот, здание на месте Елисеевского было почти таким же. И архитектор один – Матвей Казаков.
В этом доме, ныне Елисеевском, а тогда дворце Зинаиды Волконской, был литературный кружок. Самый главный в Москве. А может, и в России. Все лучшие литераторы – там. Но знаем мы о нём только потому, что там бывал Пушкин.
Здесь царил культ хозяйки, княгини Зинаиды. Все были в неё влюблены. И поэт Евгений Баратынский (кстати, его усадьба, точнее, остатки, были в моём дворе в Столешниковом переулке, 14), и Иван Киреевский, и Пётр Вяземский – все писали ей стихи и признавались в любви. Поэт Дмитрий Веневитинов, четвероюродный брат А. С. Пушкина, посвятил Зинаиде множество стихотворений. Он был безумно влюблён. Однажды Волконская подарила юноше античный перстень, привезённый из Италии. Он с благоговением принял подарок и написал стихи:
К моему перстню
Ты был отрыт в могиле пыльной,Любви глашатай вековой,И снова пыли ты могильнойЗавещан будешь, перстень мой,Но не любовь теперь тобойБлагословила пламень вечнойИ над тобой, в тоске сердечной,Святой обет произнесла;Нет! дружба в горький час прощаньяЛюбви рыдающей далаТебя залогом состраданья.О, будь мой верный талисман!Храни меня от тяжких ранИ света, и толпы ничтожной,От едкой жажды славы ложной,От обольстительной мечтыИ от душевной пустоты.В часы холодного сомненьяНадеждой сердце оживи,И если в скорбях заточенья,Вдали от ангела любви,Оно замыслит преступленье, —Ты дивной силой укротиПорывы страсти безнадежнойИ от груди моей мятежнойСвинец безумства отврати,Когда же я в час смерти будуПрощаться с тем, что здесь люблю,Тогда я друга умолю,Чтоб он с моей руки холоднойТебя, мой перстень, не снимал,Чтоб нас и гроб не разлучал.И просьба будет не бесплодна:Он подтвердит обет мне свойСловами клятвы роковой.Века промчатся, и быть может,Что кто-нибудь мой прах встревожитИ в нём тебя отроет вновь;И снова робкая любовьТебе прошепчет суеверноСлова мучительных страстей,И вновь ты другом будешь ей,Как был и мне, мой перстень верной.1826 г.Он прикрепил его к цепочке и поклялся, что наденет на палец только перед свадьбой или смертью. В двадцать один год он сильно простудился, впал в забытье. Его друг, поэт Алексей Хомяков, вспомнил просьбу Веневитинова и стал надевать умирающему кольцо на руку. Тот очнулся и спросил: «Разве меня венчают?» Так и умер с тем кольцом Волконской. Жил он, кстати, в Кривоколенном переулке, 4. Дом сохранился.
Бывал там и великий польский поэт Адам Мицкевич. Но о нём, о поразительном факте его биографии, которого не знает почти никто, – чуть позже. Тем более что в соседнем, Глинищевском переулке (улице Станиславского и Немировича-Данченко) есть мемориальная доска, посвящённая ему и Пушкину.
В юности я уже знал про салон Волконской на этом месте. Правда, мой мозг не мог вместить факт присутствия Александра Сергеевича в Елисеевском магазине. Как так?! Пушкин во фраке, Наталья Гончарова с голыми плечами, а тут магазин. Или Натальи Николаевны тогда ещё не было?! Но всё равно кто-то же там должен был быть с голыми плечами! Я тогда уже начал подозревать, что тут что-то не то. Потом допёр детскими цыплячьими извилинами.
Но тогда я входил в огромный зал шумящего магазина с бесконечными каменными гроздьями винограда, зеркалами, бронзовыми завитушками и огромными хрустальными люстрами и представлял здесь Пушкина.
Бальный зал прежнего дворца, скорее всего, был на втором этаже. И я представлял Поэта, идущего по воздуху на уровне примерно второго этажа, раскланивающегося с дамами, также воздушно порхающими над суетой нынешней (тогдашней) колбасы. Отдел колбас был как раз на огромном круглом прилавке посередине зала.
Кстати, Елисеевский – по сути же, дворец, причём неописуемой красоты. И я в него в детстве, юности и потом ходил регулярно. Позже, когда мне показывали реальные дворцы в разных точках страны и далее, я всегда невольно сравнивал их с Елисеевским. Скажу лишь, что в большинстве случаев – Елисеевский круче.
Елисеевский для меня – кроме всего ещё и запах молотого кофе. Аромат. Огромный аппарат по помолке со здоровенной стеклянной ёмкостью стоял слева от входа в зал. Если заходить через Козицкий переулок.
Тяжёлые стеклянные, с дорогим деревом и бронзой двери, одни, вторые, лесенка вверх, несколько ступенек, негритята с факелами; перед тобой огромное, в несколько метров, зеркало, направо – кондитерский отдел и хлеб. Позже, при начале бардака и Смуты, в хлебный перенесли винный.
А налево – вход в центральный зал, где, вот именно слева, и стояла огромная машина для помола кофе. Которая и давала аромат на полмагазина. Сейчас кофе почему-то так не пахнет. Хотя нет, не так давно я встречался по делу с театральным режиссёром Владиславом Быковым на другом конце Москвы. Приехал раньше, на углу Ленинского проспекта и, по-моему, улицы Кравченко зашёл в крошечную кофейню. Метров пять квадратных.
Но! Я вдруг именно там почувствовал тот самый, забытый аромат кофе! Тот, прямо из детства. Поговорил с хозяйкой, она же официантка. Рассказала, что сами жарят, сами мелют и т. д. Маленькое предприятие. Удивительно, но этот забытый уже аромат я не встречал ни в одном дорогом ресторане, где чашка кофе стоит порой до тысячи рублей, а здесь – сто. И пирожное «картошка», вкуснейшее, свежайшее, – по пятьдесят рублей. Для Москвы просто неслыханные цены.
Но вернёмся на улицу Горького (Тверскую). Судьба самого Григория Григорьевича Елисеева, хозяина всего этого великолепия и в Москве, и в Питере, трагична.
Обычно говорят, что можно снять мощный фильм. Но я этого не буду советовать и предлагать. При нынешнем этапе развития нашего кинематографа это будет пошлейшая чушь.
Упомяну лишь некоторые штрихи биографии Г. Г. Елисеева. Он не только создал процветающую империю магазинов, дворцов продуктов, но и распространил свою методику продаж в США. Открыл магазины в десятке штатов. Сейчас бы сказали «франшиза». Собственно, он и выдумал совместить магазины с кафе и развлечениями. Но дети не поддерживали отца. Они отошли от торговли. Один сын стал военным врачом, другой – инженером, третий – учёным-японистом. И купеческое «купи-продай» им было уже неинтересно.
Когда ему было уже за полтинник, он влюбился в Веру Фёдоровну Васильеву, жену купца второй гильдии. А у самого Григория Григорьевича имелись собственная жена и пятеро детей. Причём жена, Мария Андреевна, была дочерью главного пивного магната России Дурдина. Елисеев начал просить у жены развода, не знаю тогдашних правил.
Но она была женщиной непростой. Развода не дала. А стала самоубиваться. Бросилась в канал (дело было в Санкт-Петербурге) – выловили, откачали. Потом она вскрыла себе вены.
Вовремя заметили, откачали. А далее она забрала свою долю приданого из капитала мужа. И повесилась на полотенце.
На похороны Григорий Григорьевич не пришёл. И через некоторое время обвенчался с любимой и уехал в Париж. После этого дела фирмы пошли под откос. Ещё много трагического в судьбе богатейшего человека России было потом.
Но всё же это больше питерская история, чем московская. Там, в Санкт-Петербурге, проходила жизнь Елисеева. Москва – лишь знаменитый магазин на Тверской. Умер он уже в сороковые годы. Одни пишут, что в 1942-м, другие – что в 1949-м.
Но этот питерский человек подарил нам сказочный дворец- магазин. Спасибо ему за это. А личные дела – это его и Господа Бога дела.
Да, чтобы не забыть, а то убежим вперёд. Слева от Елисея на углу был, конечно, Дом актёра, который после грандиозного пожара был перенесён на Арбат. Об этом я писал в предыдущей книге «Московская Москва». Меня угораздило быть в ресторане Дома актёра именно в тот ужасный день пожара, 14 февраля 1990 года. До него, конечно. Я об этом уже рассказал. Но ходил я не только в ресторан в молодости (редко), чаще там был на разных ёлках, детских праздниках. Они проходили в зале наверху, этаж не помню, конечно. Но в памяти ребёнка остался лифт. Лифт обычный.
Но! Он был очень узкий. И вход в него в стене напротив двери узкий, и сама кабина лифта – тоже. Плюс к нему надо было подняться на несколько ступенек. И было полное ощущение для ребёнка, что ты заходишь в космический корабль и взлетаешь в небо!
Могу путать, но, по-моему, я ещё тогда прочитал книжку про собаку, которая одевалась как человек, жила как человек и через лифт взлетала на небо. (Поискал в Интернете. Нашёл! Называлась книга «Фердинанд Великолепный». Автор – польский писатель Людвик Ежи Керн.) Короче, восторг и холодок внутри от лифта в Доме актёра помню до сих пор.
Как и о том, что рядом находился магазинчик театральный, где продавались всякие кремы, пудры и прочие штуковины для актёрского грима. И они были, конечно, натуральные и высокого качества. Почему знаю, потому что в начале восьмидесятых у меня была любовь с гэдээровской девушкой Ленкой Зибенвирт. И они с подругой Утой Домес ходили в этот магазин за всякими девичьими причиндалами. И очень нахваливали.
А ещё дальше был совершенно крошечный, зажатый между двух мощных стенок магазинчик «Цветы». Магазинчик был грустный, там цветов было мало. Особенно по сравнению с нынешними шикарными цветочными. Помню, в 1979 году, когда после школы работал лаборантом в Военно-политической академии им. Ленина, меня перед Восьмым марта отправили за цветами нашим барышням. Очередь в этот малюсенький магазинчик была неимоверная, причём на улице, где был холод собачий. Но я мужественно отстоял и купил сколько-то там дохловатых гвоздик.
А последнее здание перед Елисеевским, точнее, часть его, образовавшаяся при переделке дворца Волконской в магазин, занимал и тогда, и сейчас музей-квартира писателя Николая Островского. Отец водил меня и туда. В конце шестидесятых, наверное. Он вообще показал мне всю Москву, все дворцы, усадьбы, монастыри, дальние и близкие, только благодаря ему я и принял внутрь себя наш город.
Так вот, помню, в холле этого музея меня поразили мыши. Точнее, мышата. Маленькие, сантиметра два, которые в изобилии сновали туда-сюда по подъезду у общей с Елисеевским стенки. Но это так, к слову. Хотя кому нужны мои мыши?! Да и не мои они… Ладно.
Дальше пошёл Елисей, ещё дальше, на углу Горького и Козицкого, стоит дом конструктивистского плана. Там, помимо всего, располагалось Центральное общество филателистов. Это была важная организация в советское время. Культ коллекционирования торжествовал и среди мальчишек моего поколения, и среди взрослых. Школьники вообще практически поголовно что-то собирали, составляли коллекции, менялись, собирались на свои коллекционные сборища.
Был даже такой детский роман «Марка страны Гонделупы». О чём он, конечно, не помню. Но увлечение филателией передаёт.
Марки гашёные, негашёные, с зубчиками, без зубчиков, с клеем, без клея, с водяными знаками, с надпечатками… Английские королевы, многочисленные британские колонии с неведомыми островами, по которым и изучали географию мира, немецкие с фашистскими знаками, царские, с императорами и земской почты… Яркие марки Бутана, многочисленные монгольские… Специальные альбомы, кляссеры… Рай для школьника тех лет. Думаю, никто из нашего поколения не миновал хоть мимолётного увлечения марками…