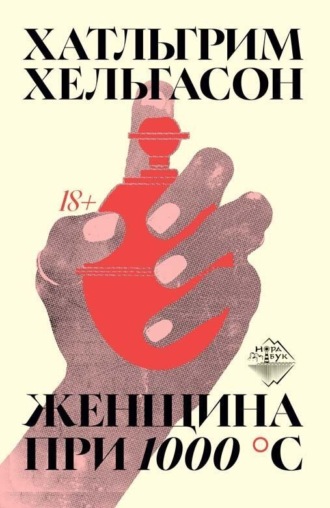
Полная версия
Женщина при 1000 °С
В десятилетнем возрасте у нее появилась собственная сеть на пинагора, а в шестнадцать лет она уже рыбачила на Бьяртнэйар. Прежде чем закончить, она, как уже было сказано, выходила в море семнадцать сезонов – и там, и на Оддбьяртнаскер, и хлебала «самотечный акулий жир» с мужиками, которые в ту пору были «не такая мелюзга, как сейчас». Когда бабушка жила у Торарина со Свида, она однажды неудачно пришхерилась, а тут начался прилив. Когда фермер наконец приехал за ней, вода уже доходила ей до шеи… И прихлынули волны к ее вые, и прорекла она:
– Торарин, да что ты вокруг меня так хлопочешь!
Она рано родила дочь Соулей, которая умерла в детстве. Это случилось на Бьяртнаэйар. А потом она неожиданно под старость родила маму; в ту пору ей было «за сорок – и сама как сор». По ее словам, ребенок у нее получился на море, во время путины. «И я весь сезон сидела на веслах с дитем в брюхе, а потом кинула его на сушу на Флатэй». У мамы никогда не бывало морской болезни – мне эта черта, увы, не передалась. Мой желудок, будь он неладен, – настоящий датчанин, он достался мне в наследство от Георгии – бабушки по отцовской линии – и привык к одним повозкам да креслам-качалкам. Зато трудности меня не пугают. Это у меня от бабушки Веры, которая только и знала что «вкалывать», – как сказал мне когда-то давно честный журналист-островитянин Бергсвейн Скуласон. «Твоя бабушка целую сотню лет провкалывала».
В подтверждение этого он рассказал мне такую историю: однажды бабушку подвозили на лодке в Оулавсдаль, где она нанялась на сенокос. По пути они остановились на острове Храппсэй, и старушку спросили, не желает ли она, пока есть возможность, осмотреть этот остров, который считается самым красивым в Брейдафьорде. «Некогда мне смотреть: в Оулавсдале сено ждет!» Ну вот, а говорят, стресс выдумали только в наше время.
17
Домик Гюнны
1935«Подёнка» окончила свой век в «домике Гюнны»[45], который стоял, а может, и сейчас стоит, возле Бабьего залива в Сандвике на Свепнэйар и изначально был построен в качестве сарая для лодок, но потом его превратили в «девичью». Вместе с бабушкой там жили целых три Гвюдрун: две семидесятилетние «девки» – Гвюдрун Йоунсдоттир и Гвюдрун Свейнсдоттир, а в придачу к ним более юная дева по прозванию Гюнна Потная, которая маялась, скитаясь по хуторам, пока старая Гюнна (та, которая Йоунсдоттир) не пристроила ее на островах.
Храпела эта девушка, судя по бабушкиным рассказам, как паровоз, зато выделяла столько тепла, что своим вечно потным и жирным, как у тюленя, телом нагревала чердак в домике не хуже любого калорифера. Когда огонь в камине умирал по вечерам, она была единственным источником тепла в хижинке. «Вонь – не беда, лишь бы жар шел». Но к концу дня одежда прилипала к телу Гюнны Потной и не снималась, поэтому она спала, не раздеваясь. Однако перед праздниками старым женщинам удавалось-таки отскрести от ее тела одежду и отнести в стирку. Чтобы запечатлеть на холсте эту запарку в клубах пара, нужен был по меньшей мере Дега. «Ха-ха-харош», – выпаливала девушка, заикаясь, и никто не мог понять: то ли она хвалила старух, то ли велела им прекратить.
Гюнна Потная была, что называется, «межеумок»: тело здоровое, а лицо апатичное, глаза посажены глубоко и блестят тускло. Творец скупо наделил ее умом. Из-за формы глаз некоторые считали, что она родом из Гренландии, а другие – что из Зеландии, что она потомок тюленя и пастуха и ее нашли на взморье, запеленатую в водоросли. А в ее лоне явно был какой-то магнит, потому что все свое детство она ходила беременная, однако на острова приехала бездетной.
Гюнна Потная ходила на хутор на работу (там идти было всего через одно болото), а остальные почти никуда не выходили и сидели, перебирая пух или прядя шерсть на первом этаже, где у них был ткацкий станок, который, не помню, почему, прозывался «Ватикан», прялки и прочие орудия для пуха и шерсти. Старухи были невелики ростом, и высокие потолки были им ни к чему. Поэтому лодочный сарай можно было разделить надвое по горизонтали: внизу рабочая комната, наверху – спальня. Войти в «домик Гюнны» было трудновато, а взрослому мужчине совсем невозможно протиснуться на чердак, где помещались четыре простые кровати и камин в уголке. Поэтому ни один мужчина туда и не поднимался, они довольствовались тем, что вставали у люка и так беседовали с четырьмя женщинами, которые прихлебывали кофе, сидя каждая на своей кровати под косой крышей: Гюнна Потная, Гюнна старая, Гюнна Свейнс и бабушка Вербьёрг. Пол чердака доходил гостю до груди, так что он всегда напоминал почтенный бюст (я сама не раз это видела), когда стоял, просунув голову в люк, и держал речь.
Чаще всего туда наведывался седобородый старик по имени Свейн Этлидасон, работник фермера Эйстейна, худощавый, жилистый, с синей от пульсирующей крови переносицей и тоненькими волосами, которые были настолько сильно связаны с небесными светилами, что во время прилива поднимались с его макушки, словно бурые водоросли в море. Его называли Свейнки Романс, но он никогда не знал женщины, зато был очарован самим понятием «любовь» и каждый год составлял подробные справочники, которые озаглавливал «Девицы Брейдафьорда». Это был перечень всех бездетных работниц на островах и на всех хуторах на побережьях Бардастрёнд, Скардсстрёнд и Скоугарстрёнд, и возле каждого имени стояли оценки по четырем параметрам. Престарелый холостяк оценивал девушек по роду, трудолюбию, пригожести и «игривости» – про это слово долго гадали, что оно значит, да так и не разгадали. Свейнки Романс питал почтение к бездетным дамам, а на других и смотреть не хотел и спрашивал каждого гостя, сходящего на берег из лодки, обо всех хуторах, где тот останавливался. «Значит, Домхильд Эйриксдоттир все еще на Вальсхамар? Двадцать восемь лет, а детей еще нет, да? А… а она еще собой пригожа, пригожа, а?»
Говаривали, что в молодости он увлекся Гюнной старой, а она – другим, который упал за борт близ Лаутрабьярг. Но Романс не сдавался и часто по вечерам приходил в «домик Гюнны», рассказывал там истории, сыпал стишками, читал поэмы, делился жизненной мудростью.
– Я вам про пастуха из Кроука рассказывал?
– Да, рассказывал, – отвечала бабушка Вера.
Бабушке Вере сильно докучал этот мужик, не желавший бросать юношеского увлечения, похожий на замерзший стебель щавеля, который ждал, когда его прилетит опылять муха, торчал здесь и портил им вечера своими бездарными перечислениями родни и рассказами об охотниках на лис и, стоя в виде бюста, принимал такую позу, будто он по меньшей мере немецкий граф, а не простой исландский табачник. Зато он никогда не слышал упреков бабушки. Она была дева порочная.
Бабушка рано научила меня не слишком почтительно относиться к тому, о чем трубят мужчины, и не давать сбить себя с толку таким вещам, как длинные бороды, бюсты и мундиры. Но у нашей сестры-женщины есть странная отвратительная привычка впитывать от галстуконосцев весь вздор, который они несут. А каждое их слово воспринимать как истину в последней инстанции. Из всех предрассудков нашего времени самый живучий – будто у мужчин мозгов больше, чем у женщин, но это мнение проистекает только из-за того, что иной мужчина знает больше стихов, чем мы, и у него стоит, когда он сам стоит на трибуне. Это заблуждение дремлет даже в самых героических женщинах – таково мое мнение, его я буду утверждать и устно, и письменно.
Разумеется, эта великая женщина сильно повлияла на меня. Я сидела на руках у мамы, но тянулась к бабушке. Я впитывала в себя ее прямодушие и непреклонность, я обожала ее прямокобыльность, но особенно восхищалась ее мужеством. Гораздо позже меня обвинят в том, что его во мне больше, чем приличествует женщине. Однако итог моей жизни таков: чтобы женщине выжить в этом мире, ей нужно стать мужчиной.
18
Blitzkreft[46]
2009Бабушка закончила жизнь в лодочном сарае, а я – в гараже. Вот так мы – две бабы – и полегли. Но ей, по сравнению со мной – о, да! – было с кем общаться. Пусть компьютер все знает и выделяет тепло, как две покойные Гюнны, – мне до сих пор не удалось научить его смеяться. Хотя в остальном мне, конечно, жутко повезло: не приходится терпеть вокруг себя храп, пердеж и треп, не говоря уж о седовласых «вечных женихах». О да, жизнь в гараже очень опрятная. Но вот – время для лекарств. Лекарства, родимые. Для нас сейчас много всякого понаизобретали.
– Ну что? Начнем с «Сорбитола»? – говорит она – девушка в форме с короткими рукавами – и наливает в ложку сахарную жижу. Для стимуляции моего кишечника.
Вкус заставляет меня вспомнить бабушку Георгию. Она обожала сладкие ликеры. А потом пришло поколение моей матери – они любили портвейн. Мое поколение пило просто водку. А на смену пришли другие люди с другими стаканами. Лова, болезная, говорит, что в те редкие моменты, когда она выползает подышать воздухом, она пьет только пиво. Так что то, что колышется у меня перед глазами, – это, скорее всего, пивной жирок.
– Вот… А потом «Фемар». Ведь он следующий?
– Ох, не помню.
– Да: две штуки и запить водой… Ага, вот так.
– Можно потрогать?
– Что потрогать?
– Твою руку выше локтя. Она на вид такая мягкая…
– Ха-ха! Ну? Да, да. Она просто толстая, ха-ха…
Теперь я – ведьма, которая, исходя слюной, щупает руку Гензеля-Гретель. Поди-ка сюда, Ловочка, дай старухе, иссохшей в воблу, пожевать твое мягчайшее девичье мясцо. Своим последним костяным зубом. У девчонки рука пухлявая, а у старухи башка трухлявая…
– Наверно, вкусная, – говорю я. Я это просто так говорю.
– Надеюсь, ты меня есть не станешь?
– А как же!
Разумеется, это результат долговременного воздействия лекарств: они просачиваются в меня, словно химикаты в почву, встречаются там со своими коллегами из рода ядовитых зелий – и потом я такой бред несу! В наше время в телах, которые кладут в гробы, всякой химии столько, что на кладбище в Гювюнесе могилы начинают отливать синевой. Трава голубая, одуванчики двуглавые. Но, как говорят доктора, сойдется яд с ядом, и будет вечное перемирие во внутренностях твоих. А впрочем, мне самой безразлично toma de medicamentos[47]. Я делаю все это только ради Ловы. Девочке так нравится возиться с лекарствами.
В 1991 году врачи вынесли вердикт, что весны я не переживу. А весна была красивая. Я маялась отеком легких семь лет. При этом я моталась по свету, что вообще нежелательно, и обильно кормила легкие никотином, что вызывало в системе здравоохранения едва ли не всеобщий протест. Но вдруг к этому неожиданно прибавился рак и захватил мою грудную клетку, будто немецкая армия. «Это Blitzkreft», – объяснила я врачам, когда меня положили в больницу.
Они отвели мне только весну, а летом уже – землю под зеленым дерном. Мне не суждено было войти в новый век, а ведь мне было всего шестьдесят два года. Я считала, что это, как выражается молодежь, «нереально». Но после курса лечения и еще курса лечения, уколов и консилиумов, лекарств и еще лекарств, внутри меня как будто настала русская зима, и немецкая армия была вынуждена отступить. Но ненадолго. Она, сволочь такая, всегда возвращалась и до сих пор возвращается.
Вдобавок в больнице меня настиг вирус иного сорта, так что надо благодарить Бога, что я вышла оттуда живой. С тех пор я в больницы не ложилась. Мне здоровье не позволяет.
Восемнадцать лет я носила под сердцем мальчика Рака, и он до сих пор не родился, но и не умер. Рак Бьёрнссон – восемнадцатилетний пацан со щетиной на подбородке и прыщами на лбу, а может, даже уже и с водительскими правами. Конечно, он выползет из меня только тогда, когда окончит медицинский вуз, – и только для того, чтоб констатировать мою смерть. Есть мнение, что я прожила с такой болезнью дольше всех исландцев. Однако наш родной президент до сих пор не пригласил меня в Бессастадир, чтобы прилепить мне на грудь значок.
В моем теле все еще идет Вторая мировая война, там вечный бой. В прошлом году под Рождество немцы захватили печень и почки, бомбардировав их метастазами, и до сих пор удерживают эти области, но прошлой весной им под натиском союзников пришлось отступить из желудка и толстой кишки. (Борьба за груди давно завершена, одна уже заседает на конгрессе грудей в лучшем мире.) Однако русские продвигаются все дальше в грудную клетку и полным ходом идут к сердцу, где скоро взовьется красное знамя. Тогда я кончусь, и на всем континенте воцарится мир. Пока не придет Сталин со скальпелем и не взрежет мое тело.
А потом меня сожгут. Так я окончательно решила.
Итак, с тех пор, как мне оставалось жить три месяца, сейчас уже прошло восемнадцать лет. Я выжила тогда и прозябаю до сих пор, хотя все время держусь только на лекарствах. Когда мне надоедает быть Линдой Пьетюрсдоттир, я иногда вылезаю в сеть под собственным именем, на страницу отчаявшихся знакомства. is.
«Женщина с одной грудью и с раковой опухолью легких, почек, печени и других органов познакомится с сильным и здоровым мужчиной. Допустимы родимые пятна».
19
Чистилище
2009Лова одолжила мне свой телефон вчера, пока бегала в магазин под часами за лампочкой для меня. Стеклянная груша на потолке – единственный фрукт, который я себе позволяю за эти сутки. Я воспользовалась возможностью и позвонила в крематорий при кладбищенской церкви в Фоссвоге, чтобы узнать, как проходит кремация. Они заявили, что в день сжигают от семи до десяти тел. Каждое из них дает два-три кило пепла (зависит от объема плоти), а температура в печи достигает тысячи градусов. Очевидно, там надо лежать целый час. «Ну, час-полтора, как-то так», – сказала монотонным голосом молодая особа, судя по всему, бесконечно далекая от огня и пепла, даром что она находилась в обители смерти. Но я думаю, что на самом деле все происходит быстрее, хотя я и не гонюсь за временем: когда дойдет до дела, мне некуда будет торопиться. А девушка была к тому же фантастически глупой.
– Я хотела бы записаться на сожжение.
– Записаться?
– Ну да.
– Да, но… и как… имя, пожалуйста.
– Хербьёрг Марья Бьёрнссон.
Послышалось короткое шуршание бумаги.
– Я не вижу его в книге записей. Вы подавали заявку на кремацию?
– Нет, нет. Я для себя. Я сама хочу записаться.
– Для себя?
– Да.
– Но… короче… там по-любому сперва надо заявку.
– А как ее послать?
– Заполнить форму в интернете и отправить, хотя на самом деле мы ее не примем, пока… Ну, вот так.
– Пока – что?
– Ну, мы не принимаем, короче… ну, в общем, пока, короче, человек не помер.
– Да, да, не сомневайтесь: когда до этого дойдет, я уже точно буду мертвой.
– Да? А…
– Да, а если будет уж совсем туго, я сама к вам приду, посадите меня в печь живую.
– Живую? Э-э, нет, так нельзя.
– Ну ладно, тогда попробую прийти мертвой; когда у вас свободно?
– Ну, ууу… А когда вы хотите?..
– Когда я хочу умереть? Вообще-то мне хотелось бы умереть до Рождества, в адвент, эдак в середине декабря.
– Так, это после… да, тогда вроде бы свободно.
– Ага. Вы можете записать меня?
– Э-э… Да-да. А на какой день?
– Скажем, на четырнадцатое декабря. Это какой день недели?
– Э-э… Это… понедельник.
– Да, это отлично, просто отлично – начинать неделю с того, что тебя сожгут. А в котором часу у вас свободно?
– Э-э… На самом деле тут свободен первый час, в девять. Хотя вы можете прийти, ну, после полудня.
– Да, я… Давайте лучше после полудня. Мне может потребоваться много времени.
– Чтоб добраться?
– Нет. Мне может потребоваться вскрыть себе вены, а в воскресенье вечером я этим заниматься не собираюсь. Я хочу сказать, что пока там кровь вытечет…
– Э-ээ… Тогда я вас запишу… А вы…
– Да… Что?
– Вы совсем… Короче… Вы уверены, что хотите?..
– Да, да, но я хочу, чтобы печь как следует разогрелась, не хочу жариться на слабом огне. Как вы там сказали, тысяча градусов?
– Да. Ну, нет, в смысле, мы можем ее заранее разогреть, и…
– Ага. А туда точно въезжают головой вперед?
Я выбираю крематорий, а не землю, несмотря на то, что у меня достаточно средств на гроб, венки и прочее. Хотя, конечно, моим мальчикам может взбрести на ум пронести свою мать в виде мертвого тела вниз по ступенькам церкви, но я, честно признаться, не знаю, хватит ли у меня духу доверить им это. С другой стороны, не факт, что они приедут на похороны своей матери. Это народ занятой, и неизвестно, слушают ли они по радио объявления о покойниках.
Да. Я твердо решила сказать «прощай» в адвент. Не могу представить, как я пересижу еще одно Рождество в гараже. В прошлом году у нас с ноутбуком было так тоскливо и к тому же холодно, хотя моя милая Доура передала мне и жаркое, и соус. А вообще, странно, что в этой стране еще не изобрели какой-нибудь способ переработки для нас, желающих почтить матушку-землю органическими останками. Например, нас можно было бы перерабатывать на удобрения для цветов – вместо того, чтобы губить эти цветы в память о нас. Но тогда бы меня, конечно, признали некондиционной, ведь у меня в организме столько всякой химии.
Да! Чем больше я об этом думаю, тем больше мне нравится эта тысяча градусов. Вряд ли он будет горячее – огонь в чистилище, он должен будет полностью уничтожить то, что я сама не смогла искоренить из своего тела.
20
Магистр Якоб
1947И тогда я, наверно, вспомню Магистра Якоба, новоиспеченного студента с Патрексфьорда[48]. Он время от времени является мне: стоит навытяжку посреди моей памяти, окруженный множеством голосящих картинок, застывший от гордости, с окровавленной головой.
Я не успела покинуть школьную скамью, как уже убила человека. Было лето сорок седьмого, и я была вне себя от счастья, что мне дали возможность провести его на Свепнэйар, со старым Эйстейном и Линой, с бабушкой в «Домике Гюнны», с тупиками в норках, со всеми моими горами на побережье Бардастрёнд. Боже, как я была рада вновь увидеть их всех после войны целыми и невредимыми! Удивительно, но природа тоже может быть близким другом.
Он был единственным студентом с «Патроу», свежевыпущенным и новоиспеченным, который на лето приехал работать к бонду Эйстейну на Свепнэйар. Якоб Сигурдссон – но дома его звали Магистр Якоб из-за его учености. Гладкощекий короткосветловолосый мальчишка с фиолетовыми прыщиками на лице. Нельзя было сказать, что он умница: весь его ум сводился к чисто школьным способностям и распространялся только на книжки. Ему не нравилось ходить по весне на тюленя, он предпочитал шарить по гнездам и собирать гагачий пух, он как огня боялся крачки и переходил Большое болото, этот «Манхэттен крачек», не иначе как с крышкой от кастрюли под шапкой, – а это место в период гнездования превращается в сплошную белоперую голосящую котловину.
Якоб был серьезным молодым человеком, а увлекся беспечной вертушкой с юга, которой к тому же не хватало культуры: это была семнадцатилетняя кобылка, пережившая войну и бомбежку, умевшая говорить по-датски, по-немецки и по-фризски. Я в ту пору, конечно, была хороша собой, но мне не грозило «совсем закоченеть от красоты», как выражается наша Доура про тех дамочек, которые только и знают, что маячить перед мужчинами на своих каблуках-маяках. И все-таки мне кажется, что его увлечение где-то глубоко-глубоко в нижних геологических слоях его души было основано на том простом факте, что эта кудрявая девица была внучкой президента Исландии. Якоб питал безграничное почтение ко всякой власти, преисполнялся благоговения, стоило старосте явиться с острова Флатэй, а на президентское дитя он смотрел как завороженный целых две недели с того момента, как я сошла на берег в узких «рейтузах» и высоких американских кедах, которые подарил нам на Рождество посол США. Кобби, конечно же, знал, что от резиденции на Аульвтанесе до причала в Стиккисхольме меня подвозил личный шофер его превосходительства. Ах, сейчас я могла бы наболтать целую главу про славного шофера Томми, всегда державшего полосатые леденцовые конфеты в бардачке, который в данном случае не оправдывал своего названия: у Томаса нигде не было бардака, везде порядок; а ездил он всегда в перчатках.
Юноша с Патрексфьорда ни разу не заговорил со мной. Однако в Иванов день мне пришло из соседней комнаты письмо: «Дражайшая йомфру! Не будете ли Вы так любезны доставить нам радость и пойти с нами на прогулку на Конец косы нынешним вечером, в связи с Ивановой ночью? С уважением, Якоб Сигрудссон, студент». Примерно так это звучало. Церемонно и совсем без юмора – как было в обычае у исландцев в те годы.
Конечно, Якоб Сигурдссон мне ни капельки не нравился. На поприще любви он был самым настоящим инженером, а этот тип людей впоследствии встречался мне очень часто, но никогда не привлекал. «Инженеры от любви» – это такие молодые люди, которые планируют свою влюбленность в одиночку, подобно человеку, замышляющему убийство, создают проекты и чертежи будущего исполинского сооружения, посвященного самому себе и ей, где их души начнут благородный танец среди гигантских несущих конструкций счастья. За этой подготовкой к любви они забывают обо всем на свете и сильно обижаются, когда их чертеж не получает одобрения. Главной ошибкой немецкого народа во время войны было как раз это. Гитлер в глубине души был таким вот «инженером от любви». Известно, что в юности он купил лотерейный билет и целые выходные чертил чертеж дома, который построит на выигранные деньги, но, когда билет оказался без выигрыша, он сильно рассердился на австрийское лотерейное общество.
21
Иванов день
1947Я была молода, жаждала любви и позволила новоиспеченному студенту с «Патроу» проводить меня на Конец косы. Мы обошли гнезда крачек в Большом болоте по берегу, прошлись вдоль Ближнего и Дальнего мыса, чтобы у нас получилась хорошая прогулка. Только вот он все время молчал. В его мозгу громко жужжала думательная машинка, она постоянно работала на повышенных оборотах, но безрезультатно. А я была дамой в полном смысле слова и считала, что начинать разговор должен кавалер. Ах, как же ты была глупа, когда думала, что женщины глупее мужчин!
Но – так оно было. Это тоже жизненный опыт.
Вечер был невероятно красив: июньская позолота заката на севере, над горами Бардарстранда, небо почти безоблачное, а море подсиненное – именно так говорили старики про этого своего друга, когда бледный штиль сменялся бризом, который начинал подмешивать в воду небесную синеву. Нигде в Исландии больше не употребляют таких изысканных слов, как на островах Брейдафьорда, хотя произношение там явно не такое, как у покойного Гюннара Тороддсена. (А слушать этого человека было просто восхитительно.)
Клочья облаков разной толщины рассыпались по небу, словно у каждого острова появилась своя небесная защитная шляпа.
– Стало быть, тебя зовут Хербьёрг?
Ну, наконец-то! Слова. Мы сидели на пригорке у Конца косы спинами к закату, глазели на собственные тени, которые растягивались по короткому склону и дальше до Тупичьей скалы, наблюдали, как две гаги плывут по своим делам по волнам возле мыса, ведя за собой неловких на воде птенцов. Якоб покраснел, на лбу ясно виднелись фиолетовые пятнышки. Коротко остриженные волосы в лучах заката были желты, как овечья шерсть, и на ощупь казались пуховыми, шевелясь под ветром, будто перья на груди птицы. Кажется, меня больше всего удивило обращение на «ты»: после того письма я была почти уверена, что он будет со мной на «вы».
– Что?
– Тебя зовут Хербьёрг?
Елки-палки лес густой! Мы целый час шли пешком, проделали весь путь до Конца косы, и сейчас он спрашивает, как меня зовут! Как будто не он сам накануне написал мое имя на конверте четким почерком. Какое убожество!
– Да.
В небесах захохотали чайка и кайра, эти циничные морские птицы, – а нас вновь взяло в плен молчание. Мне казалось – я слышу, как из этих прыщиков у него на лбу проклевывается гной, словно птенцы тупика из норки в скале под нами. Над головой пронеслась крачка – она летела не сама, ее гнал ветер, а другие птицы трудолюбиво несли в клюве свою сверкающую добычу, возвращаясь с моря. Вдруг одна налетела со стороны и резко повернула в полете, будто бомбардировщик, показав нам белую грудку, остановила перьями лучи закатного солнца – в воздухе как будто блеснула вспышка света. Якоб, судя по всему, этого не увидел. Он смотрел на фьорд, на запад, поверх острова Скьяльдарэй на Флатэй (дома на нем были хорошо видны), потом фыркнул, кивнул и, словно многомудрый философ, только что открывший великую истину, изрек:
– Флатэй.
– Да.
– Краси… красивый остров.
– Да…
– Впрочем, красивый вид не поддается измерениям. Его площадь – четыре целых и две десятых квадратного километра.
– У чего – у красивого вида?









