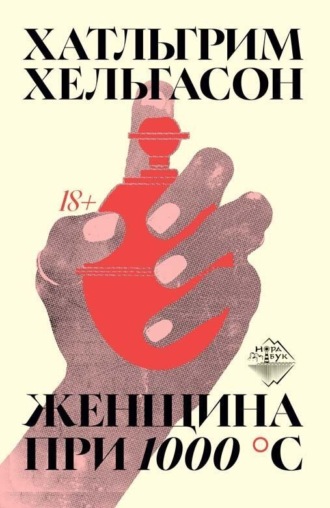
Полная версия
Женщина при 1000 °С
И вот одна из главных проблем в жизни женщины: мы хотим, чтобы на нас смотрели – но без слуха, а также, чтобы нас слушали – но без глаз. Мы хотим разгуливать на свободе – но чтобы при этом за нами следовали по пятам глаза и объективы. Во всяком случае, пока молодость не пролетела. После того как я сама, под тридцать лет, начала учиться фотографии, меня перестала интересовать суетня вокруг красоты. Та, что превращает сама себя в картинку, тем самым теряет дар речи, потому что, хотя одна картинка может сказать больше, чем тысяча слов, эта тысяча слов принадлежит не ей, а зрителям. Так что большинство мужчин хочет немых женщин, но в то же время – чтоб сей благородный товар не был лишен слуха. Я видела немало женщин, въезжающих в брак на одном молчании, а когда их красота меркла – тогда они начинали трещать без умолку. Наша Доура – одно из таких бледнеющих красивых личиков; сейчас она разговаривает так много, что Гвюдйоун предпочитает проводить время в своем джипе. Конечно, лучше всего было бы, если б мужчины обращались с нами как с равными, как со своим братом, как с мужчинами, у которых просто необычайно красивая кожа. Они могли бы позволить себе иногда вспоминать этот факт, но в остальном воспринимать нас по-простому, без всяких там форм. По крайней мере, пока они трезвы.
Но когда я путешествовала между барами в Кейптауне на руках Боба, когда я за один вечер отказала троим на корабельной палубе за экватором или когда сидела в кругу семьи на большом банкете в Бессастадире, не сводя глаз с Марлен Дитрих, – я даже представить себе не могла, что мне предстоит доживать век в одиночестве в плохо отапливаемом гараже на самом Гренсаусе[16], залежавшейся, неприбранной, с компом на одеяле и лапой Смерти на плече.
7
Острова Свепнэйар
1929Как я уже сказала, родилась я на улице Маунагата в Исафьорде 9 сентября 1929-го. Маму услали с глаз долой, пока она рожала то, что никто не хотел видеть и чего не должно было быть, то есть меня. На вход в аристократическую семью отца существовали возрастные ограничения, и первые семь лет моей жизни мы с мамой были совсем одни, на поденной работе у фермера Эйстейна с островов Свепнэйар, и его жены, Оулины Свейнсдоттир с Хергильсэй.
Оулина, или сокращенно Лина, была милейшая женщина, широколицая, пышногрудая, звонкоголосая, с вечными стихами на устах, у нее были мягкое сердце и весьма сильные руки, как у всех женщин в те времена, но со временем она стала с трудом передвигать ноги из-за ревматизма. Она управляла большим домом, как капитан – кораблем, одним глазом смотря на волны, а другим – на кухонную плиту. Моей маме она стала как родная мать, ведь хотя бабушка обладала многими достоинствами, материнская нежность среди них не числилась. По стечению обстоятельств и по воле Творца бабушка окончила свою жизнь как раз на Свепнэйар, только не на хуторе, а в старом лодочном сарае в Бабьем заливе, вместе с тремя другими старухами. А мы с мамой жили в царстве Лины.
Фермер Эйстейн происходил из свепнэйарского рода, он был чист лицом, с пушком на подбородке, с морским румянцем на щеках и ласковостью волн во взгляде, большерукий, широкоплечий, в конце жизни он ходил, опираясь на палку, живот у него был большой. По утрам он был весел, а по вечерам – порой несносен, дома он был душой компании, а при заключении договоров и во всем, что касалось дел, относящихся к миру за пределами его острова, полным бараном. Он прославился тем, что донес датских землемеров на руках до своей лодки, когда они решили подвинуть крайнюю шхеру в его владениях на пять метров к югу.
Он был «добрый-добрый», как говаривала бабушка Вера, а она была жительницей Брейдафьорда и по отцу, и по матери и косила сено на сотне островов. Она всегда повторяла похвалу два раза. «Ах, он такой хороший-хороший», – говорила она про леденец или лавочника. Бабушке было сто лет, когда я родилась, сто лет – когда она умерла. Весь век сто лет. Окрещена из моря, закалена в лодке, ничья дочь, исландская дева, мать моей матери и героиня моей души навечно, Вербьёрг Йоунсдоттир. Наверно, скоро для меня включится тот свет, и я сравняюсь с ней, я постучусь в ее двери и услышу ее: «А-а, а вот и ты, сволочь мел-
кая!»
Ей-богу, я уже жду не дождусь, когда умру.
Так вот, семь лет я блаженствовала возле Брейдафьорда, пока к отцу не вернулась память и он не вспомнил, что в этом отсеке Исландии у него есть жена и дочь. Моя юность густо усеяна островами. Островами, полными бодрых лодочников и водорослеядных овец. Солнечными и радостно-травянистыми островами, обтесанными всяческими ветрами, хотя в памяти у меня всегда царит штиль с четырех сторон.
Говорят, тот, кто побывал на всех островах Брейдафьорда, тот мертв, потому что многие из них лежат ниже уровня моря. И если во время прилива их нельзя сосчитать, то во время отлива на них нельзя рассчитывать. Они – как многое другое в жизни, ведь ни за что нельзя ручаться полностью. Сколько жилищ я сменила? Сколько мужей у меня было? Сколько раз я влюблялась? Каждое запомнившееся мгновение – остров в пучине времени, как сказал один поэт, и если Брейдафьорд – это моя жизнь, то его острова – это те дни, которые я помню, и я плыву между ними на моей утлой кровати с современным подвесным мотором под названием компьютер.
Тах-тах-тах.
8
«Коза ба 112»
1935Я плыву на борту «Козы». Бог памяти моей, я до сих пор помню этот ботик! И его владельца. Манги-Большого, или, как его еще называли, Манги – «певчего тюленя», или попросту старого Манги с острова Маунэй.
Он был «бобылем», как это называлось у нас в Брейдафьорде, жил совершенно один на одном из самых маленьких заселенных Западных островов, недалеко от побережья Скардсстрёнд. У него были пара-тройка овец и отличная нефтяная цистерна огромного размера, которую он нашел на берегу и угрохал три недели, чтобы перетащить ее через весь свой островок на восточный берег, где у него стояли лодки, – из чисто мужского упрямства. Ему оказалось достаточно наполнить эту цистерну лишь один раз, хотя «топлива он жрал много» (кое-кто говорил, будто он сам хлебал эту черную жижу, чтобы «язык смазать»), ведь Манги только и знал, что разъезжать на своей лодке, как говаривали работники у нас на Свепнэйар, «за кофейком». Он отличался от других отшельников тем, что вообще не мог находиться в одиночестве, он жаждал побыть с другими и выдумывал для этого разные предлоги. «Те бечевы надь? А то у мя есть, на острову нашел. Ну лан, тада я кофейку попью». Манги всегда уничтожал сдобу в большом количестве, но его везде привечали, ведь он был просто кладезем новостей. То у него гаги начинали откладывать яйца прямо в доме: «Я им в гостиной место сарудил, ща они уже гнезды вить начли», – то тюлени становились настолько ручными, что ему стоило только лечь в водоросли на взморье и громко запеть, как они уже спешили за ним.
Манги был высокого роста, безбородый, гладкокожий, с сочным закатным цветом на щеках, которые у него были нежнее, чем пух на груди у кайры. Соленый морской ветер отбил этот сухарь до полной мягкости. Один глаз у него всегда был выпучен; на его лице застыло выражение, с каким слушают рассказ, в который трудно поверить – и все же верят. Ведь Манги был настолько легковерен, что даже собственные преувеличения принимал за чистую монету. Голос у него был слегка визгливый, слегка ноющий, он выплевывал слова, будто выбитые зубы. «А я тут решил выращвать собстный кофеек. Весной нескка зерен садил у сарая. Но пока ниче не вырсло».
У Манги была лодка – маленький бот красивой формы, который вообще-то назывался «Гроза БА 112», но однажды ребята с острова Рувэй взяли смолу и кисть и, пока хозяин сидел в доме и цедил кофе сквозь кусок сахара, они исправили название; а Манги ничего не заметил и так и продолжал разъезжать по всему фьорду на «Козе БА 112».
Однажды в воскресенье поздней осенью он приехал к нам, бодрый после поездки по морю, пил кофе, рассказывал истории. Я это хорошо запомнила, потому что тогда отец прислал мне из столицы новое платье: в крупную клетку с белыми манжетами. В то воскресенье мне впервые позволили надеть его, и я чувствовала себя лупоглазой куклой. Когда начало смеркаться, мы запустили новую динамо-машинку, и Манги уставился на пылающую над столами электролампочку. Он раньше не видел электричества?
– Не, не, у мя дома така есь.
– У тебя на Маунэй есть динамо-машина?
– Да, да.
– Но на Маунэй никогда не видно огня, – заметил работник Скарпи, трезвый реалист с Севера.
– Ну, тада я сёне вечером вам зажгу. Тада увидите.
Вечером хозяйский дом на Маунэй пылал. Огненные языки вздымались на небывалую высоту, четко отражались в спокойном море, их было видно далеко по всем островам. А вот Манги никто больше не видел, он на своей «Козе» уплыл на запад, в открытое море.
9
Тысяча саженей
2009А теперь и я вместе с ним погружаюсь в постельные глубины, мягкие как пух, холодные как лед, неизмеримо синие и безвоздушные, где утонувшие моряки, женщины и великие поэты спешат по своим делам по устланному скатами дну. Дорогие мои придонники: взгляните, теперь и я тону со всем уловом, с парусами и веслами, с моей «Козой».
Я зажмуриваю глаза и слышу, как из меня вырываются пузырьки воздуха. Парик воспаряет с маленькой головы и превращается в необычайно толстую медузу, машет волосами проплывающим трескам и пикшам, а младенческий пушок на лысине волнуется, как худосочный планктон, а больничные штаны пузырятся и обнажают до ужаса тощие ноги: кожа трепещет позади, словно рыбьи жабры, а пятки заканчиваются выпуклостями, как старинные электросклянки, подключенные к лодыжкам жилами, тонкими, как провода, только току в них больше нет, они не танцуют танго, как когда-то в Байресе. И больничная пижама, подобная парусу, прилипла к ветхому остову, который когда-то был облеплен белой плотью и вызывал вожделение у крепких моряков во всех краях. Из открытой просторной горловины вылезает похожий на презерватив кожаный чулок под названием грудь… Ооо…
Вот тонет угробленная горбунья, отмучившаяся мумия, чугунно-тяжелое чудище, которому не воздвигнут креста, но на котором поставят крест, которое никто не оплачет, но по которому плачет лопата.
Да, вот она – несчастная я, и вот я пою, погружаясь на дно:
Море, море,Мерли в мореУтону в твоем просторе.Но что я увижу, паря в подводной темноте? Глубину лет, мою холодную как лед, пересоленную жизнь, все мое извечное свето-представление. Подо мною поблескивают города, острова, страны. Мужчины улыбаются, как зубатки, и над нами пролетают акулы с немецкими черными крестами на боках, и далеко разносится воздушная тревога китов.
И из зеленого сумрака выплывает на лодках родня, будто косяк тунцов. Дедушка и бабушка, и весь ее аптекарский род из знатных датчан, и бабушка Вера в промокшем брейдафьордском свитере, Эйстейн и Лина, как и прежде, усталые от счастья, и прабабушка Блоумэй, как старая мачта, побитая непогодой, но не сгнившая, а вот и мама… и отец… они плывут вместе, в парадной одежде, а за ними – братья и сестры отца с торжественным выражением на лицах: Бета, Килла, Хенни, Оули-Принц и Пюти… а последней – маленькая девочка… маленькая-малюсенькая… ее светлые волосики колышутся возле ушей, словно мягкие плавники. Ах, душа моя! Посмотрите только на ее личико, красивое и мирное, – однако оно причинило больше разрушений, чем ночная бомбардировка Берлина…
Они чередой проплывают мимо, и лица у них такие восхитительно одностайные, как у спящих душ на картине этого… как его, норвежского художника, который хотел купить у меня дом на Скотхусвег, а я не захотела продавать, мне он показался неряхой, я не могла допустить, что какой-то немытый норвежец будет без порток разгуливать по семейному гнезду моих родителей… Но вот она плывет – моя семья…
А дальше я тону одна.
Жизнь человека – на этой глубине в тысячу саженей. И я вижу под собой город во время войны, краски – черно-белые, а огни – ярко-красные. Я прокатилась вниз на падающей бомбе. Я – ведьма на снаряде, колдунья на помеле, она заколдовывается в дождь… да, я распыляюсь на сотню капель, я падаю, падаю…
Я падаю надо всеми Полями Тинга. Я рассредоточиваюсь на всех Полях Тинга. На 17 июня 1944 года, праздник провозглашения республики, самый дождливый из всех дней. Я мочу знамена, брызгаю на копья, каплями стекаю по щитам и мечам, по перилам, по шляпам, по кромкам, по спинкам стульев и по столам, и – о, да! – стекаю даже на листок бумаги, который подписывает мой дед Свейн – мой дедушка Свейнушка, Свейн Бьёрнссон. (Эти «дрожащие слезы»[17] он вытирает с будущего Исландии и думает, что это дождевая вода, но ощущает соленый вкус, окидывает взглядом мокрое поле, замечает, что он принимает правление страной посреди воды.)
А я просачиваюсь дальше: сквозь дерн и далее вниз, глубоко-глубоко под дедушкину подпись, в землю, в ущелье, в трещину и дальше в магму, в кипящую лаву, где на помосте сидит Гитлер и плюется тем огнем, что выжег мою жизнь…
– Тебе сейчас каши дать?
– А?
– Хочешь, я тебе сейчас дам овсянки?
– В аду не едят.
– Что?
– В аду никто не ест!
– Но Герра!
– Я не Герра!
– Хербьёрг!
– Меня зовут Блоумэй!
– Блоумэй, родная, вот тебе овсянка. Давай, я тебе помогу?
– Мне никто не может помочь!
– Сама будешь есть? Тебе надо поесть.
– Кто так решил?
– Всем надо есть.
– Ты мне это просто навязываешь, чтоб я потом срала. Ты хочешь, чтоб я срала. Чтоб тебе было чем заняться, подмывать меня, вот что ты хочешь. А я не хочу, чтоб мне хотелось срать. Я в жизни достаточно посрала!
После такой тирады я едва жива: так запыхалась.
– Но Герра…
– Блоумэй! Blumeninsel! Das Blumeninsel im breiten Fjord. Das bin ich[18].
– Ты же знаешь, я по-немецки не понимаю.
– Да ты вообще ничего не понимаешь!
Она смотрит на меня – кошачье-шипящую старуху, морщинистого зверя в пористом парике и ненадолго замолкает с тарелкой каши в руках, словно воплощенная глупость с бровями. Я заслуживала лучшего. Черт возьми, я заслуживала гораздо лучшего! Я-то думала, мне, по крайней мере, предстоит умирать в собственной кровати, даже, как говорится, «в кругу семьи». Но мои мальчики, судя по всему, знать не знают, что сейчас со мной: одевают меня или вскрывают. Они, судя по всему, не соображают, что для того, чтобы они родились, была нужна мать в количестве 1 шт. Сами собой они бы не появились. Нет, нужна была именно мать: с гладким лоном и лохматой промежностью, чтобы вытолкнуть эту мелюзгу из узкого прохода к свету. Чти отца своего и мать, как сказано где-то, только – кто помнит такие цитаты в наш компьютерный век? Я не слышала никаких вестей ни от них самих, ни от их бюстоносных супруг целых три года, хотя, конечно, у меня есть свои способы следить за ними.
– А может, ты неголодная?
– No estoy cinco años.
– Что?
– Мне не пять лет.
– А давай я заберу у тебя ноутбук, и ты сама поешь на откидном столике?
– На стойке?
– На столике. В больнице это называется «откидной столик».
– Не надо мне про больницы. Я пока не в больнице.
– Да-да, знаю, – говорит она и поднимает изголовье кровати выше, хотя я ее об этом не просила, поправляет подушку, поднимает одеяло и тут натыкается на мою гранату-яйцо. А я-то, разиня, совсем забыла ее убрать! Она вынимает ее из-под одеяла. Я бы сейчас покраснела, если бы уже давно не разучилась краснеть.
– Что это? – спрашивает она.
– Это? Ну, это… Это, в общем, так называемый «охлаждающий шар», сохранился с тех пор, как я давным-давно лежала в больнице.
– Да-а?
Она поверила этому – наивная девушка! Она убирает эту вещь в ящик ночного столика, словно медлительный бутафор – реквизит. Я опять прихожу в себя:
– Надо тебе с кем-нибудь переспать. А то так и будешь перезрелой девой.
– Да знаю. Ты мне уже говорила.
– Мама тебе ребенка не сделает.
– Ха-ха, да, я знаю.
– Я могу достать для тебя парней. Вот мой Пекарь тебе нравится?
– Да я бы лучше хотела исландца…
– Да ну их, они как рыбы сушеные. Надо смешивать кровь. Пусть Ловушка-Соловушка высидит яйцо пеликана, тогда будет что-то новенькое.
– Птичка-Лова ждет весны и одного-единственного суженого.
– Ах, ты у нас смышленая! Ты знаешь, как поступать правильно, не то что я, я-то свою невинность посеяла на камни. Ну ладно, деваха, давай мне кашу!
10
«Машина пришла»
1959Мне всегда было тяжело с ножищами Йоуна Первого или, как я стала называть его потом, Первойоуна. Он буквально тыкал мне их в лицо каждый вечер, велел мне снимать с него носки и растирать ему пальцы и ступни, пятки и лодыжки. Я при всем желании не могла полюбить эти исландские мужские ноги, по форме напоминающие березовые бревна, коренастые и твердые, и такие же пронзительно-белые, как ствол без коры. Да и такие же холодные и влажные. На их пальцах росли мелкие неровные ногти, словно несчастные почки в морозную весну. А еще – запах; в послевоенные годы ноги у всех пахли очень сильно, ведь мужчины ходили в нейлоновых носках и зачастую даже спали в обуви.
Как можно было любить этих исландских мужчин? Которые за столом одновременно и рыгали, и пердели? После четырех исландских мужей и еще большего количества сожителей я стала un vrai connaisseur[19] по части пердежа, научилась различать его виды, как дегустатор – сорта вина. «Тоненькие», «тяжелые», «газовая атака» и «люфтваффе» – так я прозвала самые распространенные виды. «Кофейники» и «рулады» тоже были мне хорошо знакомы, но хуже всего были «финики», спец по которым был Байринг с Западных фьордов.
Исландские мужчины вести себя не умеют, не умели и никогда не будут уметь, зато они веселые. По крайней мере, так кажется исландской женщине. У них есть это хранилище неприкосновенного запаса, влагонепроницаемое, с теплоизоляцией, которое они всегда носят у себя в голове и в случае нужды могут открыть и которое станет наследием поколений. Тот, кто заблудится на высокогорной пустоши и зароется в сугроб, или на все выходные застрянет в лифте, всегда может открыть этот стратегический запас исландцев и откупиться-отсочиниться от трудностей хорошей историей. После мотаний по миру и жизни на континенте я жутко устала от вежливых и беспердежных джентльменов, которые всегда откроют тебе дверь и заплатят за тебя, а интересной истории ни за что не расскажут и в постели либо бревна бревнами, либо желают ласк до самого рассвета. Швейцарские часовщики, у которых всегда было «на полшестого», или французские волосатики, которым перед пиршеством плоти из пяти блюд нужны были как минимум три блюда закуски.
Вообще-то больше всех мне нравились немецкие мужчины. Они были пропорциональной смесью рыгающего севера и воспитанного юга, аккуратного запада и дикого востока, но, что говорить, война сильно их поломала. Их нужно было починить, прежде чем что-нибудь над ними учинить. А на это никто не хотел тратить время. Лондонцы были позитивные и jolly[20], но их знаменитая ироничность все время казалась мне чем-то механическим и в конце концов наскучивала. Такое впечатление, что эти иронические машинки истребили в них всяческую серьезность. Французская машинка, напротив, мелет исключительно серьезные вещи; когда соусники начинают нанизывать свои существительные – они могут довести человека до какой угодно границы. Итальянцы чествовали каждую женщину как царицу, пока дома она не превращалась в оборванку. Янки бодрые и мыслят масштабно: всегда хотят взять тебя в полет на Луну. Но в то же время они жутко мелочные, словно какая-нибудь белошвейка, и в космическом корабле у них тотчас начинаются родильные муки, стоит кому-нибудь доесть их ореховое масло. Русские казались мне интересными. На самом деле они были самыми исландскими из всех иностранцев: всегда пили до дна, погружались в любое веселье с головой, знали множество историй и никогда не говорили всерьез; только вот порой, когда содержимое бутылки исчерпывалось, они начинали с плачем звать маму, которая жила в двух тысячах километров от них, а все равно каждый месяц приходила пешком с их выстиранным бельем. Они были совсем без тормозов и в спальне проявляли себя как бóльшие спортсмены, чем наши дорогие соотечественники, только в конце концов мне надоела вся эта постельная физкультура.
Скандинавские мужчины все такие же бестактные, как исландцы. На званом обеде они напиваются пьяными, громко хохочут и шумят, в конце концов принимаются «петь», и это даже в приличных ресторанах, где публика вообще-то откупилась от постороннего шума деньгами. А их кошельки ждали себе в гардеробе в полной трезвости, в то время как исландская мошна стояла на столе, открытая для всех. В этом отношении наши поступали как самые настоящие викинги. «Слава – это всё, а баба – это совсем другое дело!» – говорил мне мой Байринг из Болунгарвика[21]. Каждый вечер просто обязан быть историческим, иначе ты проиграл. А на следующий день они превращались в сонных мямлей с волей из пуха. Наверное, исландским женщинам не надоедает управлять своим браком, точно предприятием, но вот с подбором кадров им вечно не везет. Мне очень часто приходилось увольнять моих сотрудников, а лучшую замену им я находила редко.
И все же мне удалось полюбить этих неотесанных исландцев – по крайней мере, до колен. Ниже не получалось. И когда ноги моего Йоуна-Первойоуна вылезли из моей утробы в роддоме, я решила: «С меня хватит!» Это была точная уменьшенная копия: ножищи Йоуна в виде бонсая. У меня тотчас возникла нетерпимость к его отцу на физическом уровне, и я запретила ему входить, чтобы посмотреть на ребенка. Только услышала удивленные нотки в его басе из коридора, когда акушерка заявила ему, что вызвала для него такси. С тех пор у меня возник такой обычай: когда я расставалась со своими мужчинами, я вызывала для них такси.
«Машина пришла!» – это стало моей любимой фразой.
11
Йоунизация
1959–1969В годы после Второй мировой войны и перед Тресковыми войнами[22] каждого второго мужчину в Исландии звали Йоун. От этих Йоунов буквально спасения не было. Нельзя было сходить на танцы и не «залететь» от какого-нибудь Йоуна. За десять лет я родила троих мальчиков от троих Йоунов, и некоторые даже шутили, что я – великий Йоунизатор.
Первым был Йоун Харальдссон: гладко причесанный оптовик с раздвоенным подбородком и перечным румянцем на щеках. От него у меня родился Харальд Прекрасноволосый. Оба глухонемые.
Затем был Йоун Б. Оулавссон, знаменитый в пору «сикстиз», его прозывали «Йоумби». Он был рыжим конопатым журналистом в газете «Время», в постели мощный, а в остальном мягкотелый. От него у меня родился Оулав – король бутербродов, который сейчас живет в Бергене, которому лучше всего дышится среди буханок хлеба и который не знает ничего скучнее визитов своей матери.
И под конец был Йоун Магнуссон, юрист и спец по генеалогиям, Нонни Магг[23], раздобревший и добродушный, больше всего ценивший искусство «ловить момент», чем он каждый день и занимался, со стаканом и с завидным постоянством. От него у меня родился наш Магги, Магнус Законник. У этих отца с сыном семья была большая, разветвленная, отец Йоуна был сыном аж троих человек. Сам же Йоун похвалялся тем, что он – единственный ныне здравствующий исландец, состоящий в родстве со всеми соотечественниками. «Привет, дядюшка, привет, тетушка», – говорил он. Худшее, что он мог сказать о человеке, было: «Он мне седьмая вода на киселе».
Для удобства я зову моих Йоунов Первойоун, Среднейоун и Последнейоун.
12
Grosse freiheit[24]
1960А потом был Фридъйоун.Вызвав такси для Первойоуна, я поспешила в Гамбург, где и прожила, если не ошибаюсь, два года. Я была еще слишком молода для исландской повседневности, мне надо было выпить больше из кубка жизни, прежде чем примириться с «послеродовой смертью», а женщинам известно, что, дав жизнь ребенку, сами они умирают. На самом деле до того я уже рожала ребенка, но не захотела из-за этого умирать, а продолжала жить, что было ошибкой. Ее я не собиралась повторять. Но после шести месяцев мне надоело таскаться в одиночку с коляской по улице Банкастрайти в дождь со снегом с севера. Я не была создана для серых дней. Своего новорожденного сына я оставила у «Йонссона & Муттер» на улице Брайдраборгарстиг. Но мама к тому времени уже стала частью этого теплого мягкого кофейного семейства. Она жила с Фридриком Джонсоном семнадцать лет, пока мой отец соскабливал свастики, которые принес домой с войны.
Это была моя последняя попытка что-то из себя сотворить. Мне скоро должно было исполниться тридцать, а я так ничему в жизни и не научилась, кроме как обращаться с гранатой и танцевать танго. В Гамбурге я собиралась учиться на фотографа. Рисовать мне всегда нравилось, а в Нью-Йорке Боб приоткрыл мне щелку в мир этого нового искусства. У его отца был оригинал одной фотографии Мана Рэя[25] и книги с работами Брессона[26] и Брассаи[27], которые зацепили мой взор, подобно черным, как типографская краска, когтям. «Моменты из жизни» всегда нравились мне больше, чем постановочные фотографии. Позже я стала восторгаться Ли Миллер[28], особенно ее снимками времен Второй мировой. На родине же почти не было прекрасных штрихов, разве что Кальдаль[29], но я старалась не отставать от жизни и порой покупала «Vogue» и «Life Magazine», когда они бывали в продаже. Ни одна исландская женщина не изучала фотоискусство с таким усердием, а отец однажды сказал, что если у меня и есть талант к чему-то, то – к «искусству момента».









