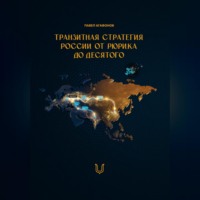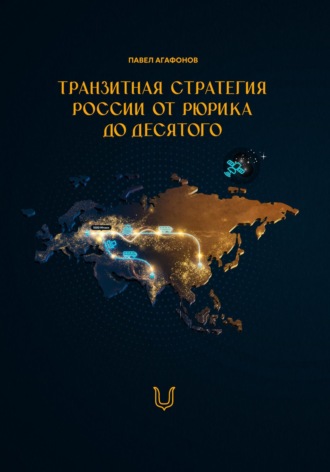
Полная версия
Транзитная стратегия России от Рюрика до Десятого
§ 1.2. Зарождение Руси: путь «из варяг в греки» и первые князья
Мировая история наглядно демонстрирует: народы и государства, сумевшие оседлать и контролировать транспортные потоки, обретали ключ к процветанию и влиянию. От речных долин древности до морских империй Нового времени – логистика была и остается скрытым двигателем прогресса. Однако важно понимать, что на территорию будущей Руси и России цивилизация в ее государственно-организованных формах пришла на несколько тысячелетий позже, чем в более южные регионы. Вероятно, одной из ключевых причин этого являлось то, что ареал раннего земледелия – важнейшей отрасли древнего мира и средневековья, создававшей прибавочный продукт и условия для возникновения сложных обществ, – не мог сразу распространиться на холодные и лесистые области Восточной Европы. Зарождение цивилизаций началось в более теплых и благоприятных для жизни человека регионах мира, которые, к тому же, были связаны между собой торговыми путями, способствовавшими обмену идеями, технологиями и товарами. Именно отсутствие удобных и налаженных торговых путей, интегрирующих регион в уже существующие цивилизационные сети, долгое время было одной из причин относительного отставания будущих русских земель.
И все же, Древней Руси, в этом смысле, уже однажды исторически повезло: примерно к IX веку она оказалась в уникальном положении, сумев стать транзитным мостом между двумя мощнейшими экономиками тогдашнего мира – Византийской империей и Арабским халифатом, что во многом и предопределило ее ранний расцвет. Теперь, вооружившись этим знанием и историческим прецедентом, мы вглядываемся в туманные истоки Руси, где в IX веке на историческую авансцену выходит фигура Рюрика – персонаж, балансирующий на грани мифа и реальности, но неизменно открывающий галерею русских правителей. Летописная традиция представляет его как основателя порядка, призванного покончить с междоусобицами. Но была ли его миссия лишь в установлении власти? Или же за легендой о призвании кроется начало куда более масштабного проекта – организации великого речного транзита, ставшего экономической основой Древнерусского государства? Не был ли Рюрик первым из тех, кто взялся реализовывать вечный «транзитный план» России, подобно тому, как страна может использовать свое положение и сегодня?
1.2.1. Рюрик: легенда основания или начало организации транзита? Норманнский вопрос
«Повесть временных лет», главный источник наших знаний о тех далеких временах, рисует картину почти библейского масштаба. В 862 году племена Северо-Запада – ильменские словене и кривичи, вместе с финно-угорскими чудью и весью – изгнали варягов, которым прежде платили дань. Но обретенная свобода обернулась хаосом: «И не было в них правды, и встал род на род… и стали воевать сами с собой». В поисках выхода из анархии, они отправляют послов за море[11], к варягам племени «русь», предлагая им власть над своей «великой и обильной» землей, в которой нет «порядка». «Да поидете княжить и володети нами», – эти слова звучат как приглашение к управлению, к установлению того самого «наряда». С этого момента история России становится не историей отдельных племен или народов, границы которых впоследствии затерлись на карте, а историей Государства.
На зов откликаются три брата-варяга: Рюрик, Синеус и Трувор. Летопись размещает их в стратегически важных точках: Рюрик садится в Ладоге – ключевом порту на Волхове; Синеус – на Белом озере, контролируя водные пути на северо-восток; Трувор – в Изборске, форпосте на западных рубежах. Смерть братьев спустя два года делает Рюрика единоличным правителем. Он переносит свой центр на берега Ильменя, в Рюриково Городище, откуда начинает «раздавать мужам своим грады» – Полоцк, Ростов, Белоозеро, Муром – выстраивая первую систему управления подвластными территориями и, что важнее, ключевыми пунктами на речных путях.
История о «призвании варягов», безусловно, несет идеологическую нагрузку, легитимируя власть династии. Но экономическая подоплека событий не менее важна. «Обильная земля» – это не только пашни, но в первую очередь – бескрайние леса, источник главного экспортного ресурса эпохи – пушнины. Соболь, куница, белка, бобр, лисица – это «мягкое золото» высоко ценилось на рынках Византии и мусульманского Востока. Не менее востребованы были мед диких пчел, воск, качественный лен, а также, увы, рабы – живой товар, захватываемый в ходе набегов или межплеменных войн. Все это богатство нужно было не только собрать (в виде дани или через торговлю), но и доставить на рынки сбыта. «Отсутствие порядка» означало неэффективность сбора дани и крайнюю рискованность торговых экспедиций по рекам, кишащим не только порогами, но и разбойными ватагами.
В этой ситуации появление сильной, организованной власти, способной наладить сбор дани, обеспечить безопасность путей и централизовать торговлю, было объективно выгодно для формирующейся элиты – как пришлой варяжской, так и местной племенной. Контроль над транзитом становился главным источником богатства и политического влияния.
Именно поэтому места, связанные с Рюриком, имеют такое колоссальное значение. Старая Ладога – это не просто деревня, это процветающий международный эмпорий[12] VIII–IX веков. Раскопки свидетельствуют о высоком уровне ремесла (кузнечного, ювелирного, косторезного), наличии мощных укреплений, интенсивной торговли. Обилие арабских серебряных дирхемов, византийских амфор, скандинавских фибул и оружия, франкских мечей, стеклянных бус со всего света говорит о том, что Ладога была важнейшим пунктом на пути из Балтики вглубь континента. Это были северные ворота будущей Руси.
Рюриково Городище, расположенное в 2 км от будущего Новгорода, у самого истока Волхова из Ильменя, предстает уже не столько торговым, сколько военно-административным и княжеским центром. Здесь найдены остатки мощных деревянно-земляных укреплений, княжеской резиденции, предметы роскоши, импортное оружие, свинцовые печати, свидетельствующие об административной деятельности. Стратегическое положение Городища было идеальным для контроля над всей водной системой Приильменья. Озеро Ильмень – гигантский распределительный узел. Через Ловать и систему волоков открывался путь к Днепру. Через Мсту – к Волге. Через Шелонь – к Псковскому озеру. Контролируя Городище, Рюрик (или его дружина) контролировал ключевую узловую точку, откуда расходились пути на юг и восток. Нельзя не упомянуть и сами волоки – сухопутные участки между реками. Их преодоление было самым трудоемким этапом пути, требующим организации, рабочей силы, охраны. Контроль над волоками на Валдае был не менее важен, чем контроль над реками, и, вероятно, стал одной из первоочередных задач новой власти.
Здесь мы вновь возвращаемся к «норманнскому вопросу». Споры о том, был ли Рюрик скандинавом, славянином или кем-то еще, продолжаются. Находки скандинавского типа в Ладоге, Городище, Гнёздово многочисленны, имена первых князей и дружинников часто имеют германское происхождение. С другой стороны, присутствие славянского населения и его культуры также неоспоримо, а некоторые исследователи находят аналогии русам среди западнославянских племен. Однако, повторимся, для нашей темы важнее функция. Кем бы ни была «русь» – это была активная военно-торговая сила, обладавшая необходимыми навыками и организацией для того, чтобы взять под контроль речные пути и наладить эксплуатацию ресурсов региона. Они стали той силой, которая смогла преодолеть племенную раздробленность и начать процесс объединения земель вдоль транзитных магистралей. Возможно, как предполагают некоторые историки, Рюрик был приглашен как нейтральный арбитр, способный разрешать споры между различными племенными и этническими группами, уже присутствовавшими в регионе.
Этимология слова «Русь», связанная с греблей (др. сканд. rōþs-), остается привлекательной рабочей гипотезой, подчеркивающей изначальную «речную» идентичность и транзитную направленность формирующегося этноса и государства. Они – «гребцы», покорители водных пространств.
Важно отметить, что русы действовали на международной арене еще до летописной даты призвания Рюрика. Посольство «народа Рос» ко двору франкского императора Людовика в 839 году, где их правитель носил титул «хакан», и поход на Константинополь в 860 году свидетельствуют о наличии у русов уже в первой половине IX века серьезной организации и амбиций. Титул «каган», равный императорскому, был явным вызовом Хазарскому каганату, контролировавшему тогда Волжский путь и собиравшему дань с части восточнославянских племен. Борьба за контроль над торговыми путями началась задолго до Олега и Святослава. Рюрик в этом контексте мог быть лидером, сумевшим закрепить успех и основать династию.
Его действие по «раздаче городов мужам своим» – это не просто феодальная практика, это начало построения вертикали власти, необходимой для контроля над огромной территорией и организации сбора дани («полюдья») – основы княжеской экономики. Посаженные в ключевых пунктах (Полоцк на Западной Двине, Ростов и Муром на Волго-Окском междуречье, Белоозеро на пути в Заволочье) наместники должны были обеспечивать поступление ресурсов в центр и лояльность местного населения.
Таким образом, Рюрик предстает не просто легендарным основателем, но и первым стратегом русского транзита. Осознанно или нет, он занял ключевой плацдарм на Северо-Западе, установив контроль над истоками великих речных путей. Он начал процесс организации сбора ресурсов и управления территорией вдоль этих путей. Он заложил фундамент, на котором его преемники построят огромное государство, чья сила и богатство будут неразрывно связаны с его транзитной функцией. Рюрик – первый в ряду правителей, определявших эту судьбу, первый «гребец», направивший ладью русской истории по пути между морями и континентами. Его имя открывает историю не только династии, но и великого евразийского транзитного проекта, который продолжается и по сей день.
1.2.2. Вещий Олег: объединение торговых центров, походы на Царьград, первые договоры
Наследие Рюрика, закрепившегося у северных истоков великих речных путей, было подобно заготовке для грандиозного строительства. Был создан плацдарм, намечен вектор движения, но само здание транзитной державы еще предстояло возвести. Эту миссию взял на себя Вещий Олег – фигура, выходящая из тени легенд и действующая на исторической сцене с поразительной энергией, прагматизмом и стратегическим видением. Если Рюрик был основателем, то Олег стал собирателем и организатором, тем правителем, который не просто расширил владения, а связал их в единую систему, превратив разрозненные речные отрезки в магистральный путь «из варяг в греки» и заставив могущественную Византию признать Русь равным партнером.
Приняв власть после смерти Рюрика (около 879 г.) как регент при малолетнем Игоре, Олег не стал почивать на лаврах северных завоеваний. Его взор был устремлен на юг, туда, где Днепр нес свои воды к Черному морю и далее – к баснословно богатому Царьграду[13]. Понимая, что контроль над северным узлом недостаточен, Олег начинает методичное продвижение вдоль главной речной артерии.
Первой целью становится Смоленск (Гнёздово) – крупнейший центр кривичей на верхнем Днепре. Этот город был не просто племенным центром, а важным торгово-ремесленным поселением, контролировавшим как путь вниз по Днепру, так и волоки, связывавшие Днепр с Западной Двиной (путь к Балтике) и верховьями Волги. Взяв Смоленск около 882 года, Олег не ограничивается сбором дани, а «посади муж свои» – оставляет гарнизон и своего наместника, закрепляя контроль над этим стратегическим перекрестком. Собрав внушительные силы – летописец перечисляет варягов, словен, чудь, кривичей, мерю, весь, – он движется вниз по течению.
Следующим падает Любеч – город на Днепре, прикрывавший землю северян. Здесь повторяется та же схема: захват и установление прямого княжеского управления. Шаг за шагом Олег подчиняет ключевые пункты, превращая реку в контролируемую магистраль.
Кульминацией этого южного похода становится захват Киева. Этот город, расположенный на высоком правом берегу Днепра в земле полян, самой развитой из восточнославянских племенных групп, был жемчужиной среднего Поднепровья. Его стратегическое положение было исключительным: контроль над средним течением Днепра, близость к степи и кочевникам, пересечение путей с запада на восток. Киев уже был значительным центром, возможно, находившимся в даннической зависимости от Хазарского каганата. Правившие здесь, согласно летописи, варяги Аскольд и Дир (независимо от их точного происхождения) были препятствием на пути Олега к полному контролю над Днепровским путем.
Летописный рассказ об устранении Аскольда и Дира напоминает военную спецоперацию. Олег прибывает к Киеву под видом купца, скрыв воинов. Выманив правителей на берег, он предъявляет им наследника Рюрика – Игоря – как истинного князя, после чего Аскольд и Дир погибают. За этой, возможно, приукрашенной историей стоит жесткий политический расчет: устранение конкурентов и захват главного стратегического центра на всем пути «из варяг в греки».
Провозгласив Киев «матерью городов русских», Олег совершает акт огромного геополитического значения. Столица переносится из северной периферии в центр формирующегося государства, на главную торговую артерию, ближе к основному источнику богатства и влияния – Византии. Киев становится идеальным командным пунктом для управления огромной территорией, сбора дани и организации дальнейшей экспансии.
Далее Олег методично «примучивает» окрестные племена, включая их в свою державу. Он подчиняет древлян (883 г.), живших к западу от Киева, затем северян (884 г.) на Десне и Сейме, освобождая их от дани хазарам, и радимичей (885 г.) на реке Сож, также ранее плативших хазарам. Каждое такое подчинение – это не только расширение территории, но и укрепление контроля над речными путями (притоками Днепра), источниками ресурсов (пушнина, мед, воск) и людскими резервами. При этом Олег действует не только силой, но и дипломатией, предлагая более легкую дань, чем хазарская, и позиционируя себя как альтернативный центр силы. Это была целенаправленная политика по ослаблению Хазарии в Восточной Европе и консолидации восточнославянских племен вокруг Киева. К концу IX века путь «из варяг в греки» – от Ладоги через Новгород (Городище), Смоленск (Гнёздово), Любеч, Киев и далее вниз по Днепру через опасные пороги к Черному морю – был практически полностью объединен под властью Олега.
Этот великий речной путь был нелегкой дорогой. Он начинался в Балтийском море, шел через Неву, Ладожское озеро, Волхов, озеро Ильмень, реку Ловать. Затем следовал самый сложный участок – система волоков на Валдайской возвышенности, где лодки и товары приходилось перетаскивать по суше на несколько километров до верховьев Западной Двины или Днепра. Спустившись по Днепру через Смоленск и Киев, путники сталкивались с новым испытанием – днепровскими порогами, девятью скалистыми грядами, преграждавшими русло ниже современного Запорожья. Здесь приходилось либо проводить суда у берега, либо снова перетаскивать их волоком, постоянно опасаясь нападения степных кочевников – печенегов, контролировавших причерноморские степи. Лишь преодолев пороги, корабли выходили в Черное море и брали курс на Константинополь. Объединение пути под единой властью Олега не устраняло этих трудностей, но создавало условия для лучшей организации и охраны караванов.
Укрепив внутреннее положение, Олег переходит к решению главной внешнеполитической задачи – установлению отношений с Византией. Его знаменитый поход 907 года, независимо от степени достоверности летописных деталей (вроде кораблей на колесах), стал демонстрацией военной мощи Руси. Согласно летописным данным, огромное войско, собранное со всех подвластных племен (что само по себе свидетельствует об эффективности власти Олега), на двух тысячах ладей подошло к стенам Царьграда и вынудило императора Льва VI Философа пойти на переговоры. Результатом стал исключительно выгодный для Руси договор. Помимо контрибуции, русские купцы получили право беспошлинной торговли, бесплатное содержание в Константинополе на срок до шести месяцев, право на ремонт судов за счет казны. Это были беспрецедентные льготы, превращавшие торговлю с Византией в сверхприбыльное предприятие. Легендарный щит Олега на вратах Царьграда стал символом этого успеха.
Письменный договор 911 года, заключенный посольством Олега, подтвердил и детализировал эти условия. Текст договора, дошедший до нас, поражает юридической проработкой. Он регулировал широкий круг вопросов: от порядка пребывания и торговли русских купцов (которые должны были предъявлять княжеские грамоты) до норм уголовного и гражданского права во взаимоотношениях русов и греков (ответственность за убийство, кражу, нанесение увечий), от правил оказания помощи при кораблекрушении до условий найма русов на византийскую службу и порядка возвращения беглых рабов. Договор 911 года – это первый полномасштабный международный трактат Древней Руси, свидетельство ее признания как равного партнера могущественной Византийской империи. Он создавал прочную правовую основу для функционирования пути «из варяг в греки» и обеспечивал экономическое процветание Руси на десятилетия вперед. Византии, воевавшей на востоке с арабами и на севере с болгарами, мир и союз с сильной Русью, способной поставлять воинов-наемников, также был выгоден.
Таким образом, правление Вещего Олега стало ключевым этапом в становлении Руси как транзитной державы. Он завершил дело, начатое Рюриком, объединив север и юг вдоль Днепра, создав политический центр в Киеве и подчинив ключевые племена. Его военные и дипломатические успехи в отношениях с Византией обеспечили максимально благоприятные условия для торговли по пути «из варяг в греки». Олег предстает не просто удачливым военачальником, но и прозорливым политиком и организатором, заложившим основы могущества Древнерусского государства, построенного на контроле над великим речным путем. Он был вторым, после Рюрика, ключевым исполнителем «транзитного плана» России, и его прозвище «Вещий», возможно, лучше всего отражает точность и дальновидность его стратегических решений. Он не только «греб» сам, но и заставил грести в одном направлении огромную территорию, направив ее ресурсы на освоение главного транзитного коридора эпохи.
1.2.3. Третий «гребец»: Владимир Святославич и третья река
С уходом Вещего Олега, объединившего главные речные артерии и добившегося признания Византии, казалось, что основная работа по созданию транзитной державы выполнена. Но Русь – это проект, требующий постоянного внимания и расширения. Сын Игоря, Святослав, был блестящим полководцем, разгромившим Хазарию и Волжскую Булгарию, но его сердце лежало скорее в походах и битвах, чем в кропотливом управлении торговыми путями. Он даже подумывал перенести столицу на Дунай, поближе к византийским богатствам, но его мечтам не суждено было сбыться – его жизнь оборвалась в стычке с печенегами. И вот на авансцену выходит его сын, Владимир Святославич, фигура не менее яркая и противоречивая, но именно ему суждено было не только закрепить достижения предков, но и добавить к ним новые, стратегически важные измерения, включая цивилизационный выбор, определивший судьбу страны на тысячелетие вперед.
Владимир унаследовал огромное, но все еще рыхлое государство, контроль над которым требовал постоянных усилий. Одним из его важных деяний с точки зрения транзита стало окончательное подчинение вятичей – восточнославянского племени, занимавшего стратегически важное положение в верховьях Оки (там, где сейчас город-герой Москва), между Днепровским и Волжским бассейнами, и контролировавшего сухопутные пути к Дону. Летописи сообщают о нескольких походах Владимира на вятичей, которые долгое время сохраняли независимость и платили дань хазарам. Подчинив их и наложив дань, Владимир не только укрепил свою власть в центре русских земель, но и, что крайне важно, получил более надежный контроль над путями к Дону – третьей великой реке Восточной Европы, открывавшей выход к Азовскому морю и степному миру. Именно это расширение контроля на восток и юго-восток, возможно, и нашло свое символическое отражение в изменении княжеского знака. Если его отец Святослав использовал двузубец, вероятно, символизировавший контроль над двумя основными путями – Днепровским и Волжским, то Владимир вводит в обиход трезубец. Не является ли этот третий зубец геральдическим отображением взятия под контроль Донского бассейна? Эта «картографическая» гипотеза, как мы увидим далее, позволяет объяснить многие загадки символики Рюриковичей.
Конечно, транспортная система того времени была далека от идеала. Прямой и безопасной «прямоезжей дороги» через дремучие брянские леса, которая бы напрямую связала Киев с северо-восточными землями (Залесьем), еще не существовало – ее воспоют в былинах гораздо позже. Основными артериями оставались реки с их порогами и волоками, а также степные пути, полные опасностей от кочевников. Но Владимир сделал важный шаг, расширив зону контроля над ключевыми водными и сухопутными маршрутами.
Однако главным деянием Владимира, имевшим колоссальные долгосрочные последствия, в том числе и для транзитной роли Руси, стало Крещение 988 года. Выбор православия византийского образца был не только духовным, но и глубоко прагматичным геополитическим решением. Он включил Русь в орбиту самой развитой на тот момент европейской цивилизации, открыл доступ к ее культуре, письменности, праву, технологиям. Это был своего рода стратегический «импорт» целой цивилизационной модели. Крещение укрепило связи с Византией – главным торговым партнером и источником престижа. Оно способствовало внутренней консолидации государства на новой идеологической основе и повышению международного статуса киевских князей. Владимир, как и призывает данная книга в отношении современной России, действовал избирательно: он не закрывался от мира, а выбирал то, что считал полезным для своей страны, будь то религия из Византии, дружинники из Скандинавии или торговые партнеры на Востоке. Он воевал, когда это было необходимо (с печенегами, поляками, волжскими булгарами), но и активно развивал дипломатические и торговые связи. Его правление – это пример того, как лидер может использовать внешние контакты и заимствования для укрепления и развития собственного государства, продолжая реализацию великого «транзитного плана» через интеграцию и стратегическое партнерство.
1.2.4. Двузуб и трезуб Рюриковичей: символика власти или карта речных путей?
Вслед за Рюриком, заложившим северный плацдарм, и Олегом, прорубившим магистраль до самого Царьграда, на историческую сцену выходят их потомки. И вместе с ними появляется один из самых загадочных и дискуссионных атрибутов ранней русской государственности – личные знаки Рюриковичей, известные как двузубцы и трезубцы. Эти лаконичные, но выразительные символы, дошедшие до нас на монетах, печатях, подвесках, оружии и даже бытовых предметах, стали не просто эмблемами княжеской власти, но и полем для нескончаемых научных баталий. Что они означали? Были ли это просто личные метки, родовые гербы, заимствованные символы или нечто большее? И не скрывается ли за их геометрической простотой ключ к пониманию самой сути ранней русской государственности – ее неразрывной связи с контролем над великими речными путями?
Знаки Рюриковичей – это не эфемерная гипотеза, а вполне материальная реальность, представленная сотнями археологических находок. Их начинают активно использовать с середины X века, со времен князя Святослава Игоревича[14], и они остаются в обиходе примерно до середины XII века, постепенно уступая место более сложным геральдическим композициям.

Печать Святослава Игоревича (942–972 гг.) из Киева
Наиболее яркое представление об этих знаках дают древнерусские монеты – сребреники и златники, чеканенные князьями Владимиром Святославичем, Святополком Окаянным и Ярославом Мудрым. На этих монетах княжеские знаки выступают как неотъемлемый элемент государственной символики. Другой важной категорией находок являются княжеские печати (буллы). Самые ранние известные печати Рюриковичей принадлежат Святославу Игоревичу и несут четкое изображение двузубца. Многочисленны и находки предметов личного обихода и вооружения с княжескими знаками. Их широкое распространение говорит о том, что знак князя был символом принадлежности к его власти. География находок охватывает всю территорию Древней Руси и маркирует направления внешних связей.
При кажущемся разнообразии, вызванном индивидуальными модификациями (изменение формы зубцов, добавление отростков, точек, крестиков), знаки Рюриковичей поразительно однообразны в своей основе. Это, как правило, фигура, напоминающая перевернутую букву «П», от основания которой отходят два или три зубца. Именно это структурное единство наводит на мысль о едином смысловом ядре. Двузубец считается древнейшим вариантом княжеского знака. Самые ранние свидетельства использования этих символов, такие как граффити на арабском дирхеме, исследователи традиционно относят ко времени правления Рюрика, датируя монету 877/878 годом[15]. Однако недавние находки могут внести существенные коррективы в эту хронологию. Так, в 2012 году у бывшей деревни Большое Тимерево (IX–XI вв.) был обнаружен дирхем аббасидского халифа, отчеканенный еще в 861 году[16], то есть до гипотетического призвания варягов, и он также несет на себе изображение двузубца. Это открытие убедительно свидетельствует о глубокой древности этого символа на русских землях.