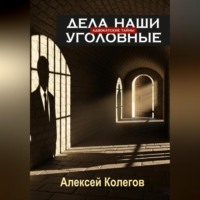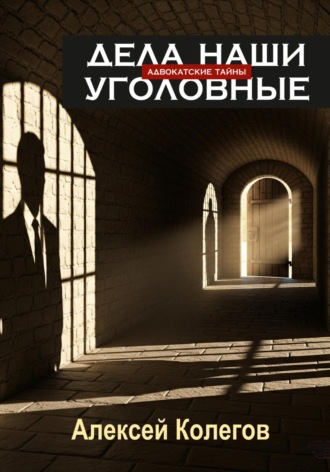
Полная версия
Адвокатские тайны. Дела наши уголовные
«Перепутала стороны», – подумал я, меня сделала прокурором, а молодого прокурора сделает адвокатом, то есть мной.
«…и защитника подсудимого – адвоката Колегова…», – продолжила председательствующая судья.
Как я в ней ошибался! Ведь ничего она не перепутала. Снова сошлись в одну точку два обладателя одной и той же достаточно редкой фамилии.
– Встаньте оба! – скомандовала судья.
Мы оба, я и прокурор, встали.
– Являетесь ли вы родственниками? – спросила она.
– Ни в коем случае, Ваша честь, – спокойно ответил я.
– Что значит, «ни в коем случае»? – уточнила судья.
– Ни в коем случае не являемся родственниками, Ваша честь, – дополнил я.
– Нет, – сказал мой процессуальный противник.
– Тогда прошу садиться. Продолжаем, – довольная тем, что не прямые и не косвенные связи между адвокатом и прокурором установлены не были, она продолжила судебное заседание.
И снова мир тесен. Больше мы с моим однофамильцем-прокурором в одном процессе никогда не сталкивались. А может нас просто решили не сталкивать.
Как-то в одной из приватных бесед с одним моим коллегой, известным в нашей области адвокатом, последний как-то, между прочим, сказал мне: «А вы с прокурором Колеговым даже внешне похожи».
– Не может быть, – сказал ему я, – в моем генеалогическом древе его нет.
Совсем не так давно, придя в городской суд, я подошел к кабинету судьи, у которого должно было состояться очередное судебное заседание с моим участием.
Но поскольку я, случайно перепутав этаж, подошел к кабинету совсем другого судьи, добросовестно думая, что подошел к кабинету того судьи, у которого должно состояться заседание, уже было потянув ручку двери его кабинета на себя, подняв глаза на дверную табличку, я обомлел.
Я понял, что судейский корпус пополнился новым судьей с адвокатской фамилией.
На табличке гордо красовалась надпись: «Судья Колегов». Да, тот самый Колегов, бывший помощник прокурора города, тот самый государственный обвинитель, с которым мы больше не оказывались по разные стороны баррикад, который не является моим родственником, но почему-то говорят, что похож на меня. Конечно же, они ошибаются. Не похож.
Вы не поверите, но, несмотря на непродолжительное время, с тех самых пор, как мой однофамилец присягнул Фемиде, мне стали поступать телефонные звонки от людей, имеющих отношение к делам, назначенным к рассмотрению именно этим судьей. Эти люди осторожно спрашивали меня, могу ли я взяться за их дело, давая понять, что в зависимости от результата рассмотрения дела, благодарности не будет предела.
Друзья мои, гарантом Конституции является Президент, который гарантирует соблюдение ее норм и принципов. Гарантом приговора по уголовному делу является судья как субъект принятия правосудного решения.
Адвокат может гарантировать вам только свое добросовестное отношение к вашему делу, используя в работе свои высокие профессиональные навыки, если он таковыми обладает.
Ни судья-супруг адвоката, ни судья-брат адвоката – ни есть гарантия положительного результата в суде. Это фикция и заблуждение. Хотите попробовать – тогда вперед!
Да, кстати, увлекшись своим повествованием, я так и не выяснил, что означает моя фамилия. Что означает мое имя – я знаю. По-гречески Алексей – защитник.
Помню слова моего ныне покойного деда в тот день, когда я покинул ряды нашей доблестной прокуратуры, уже далеко не государева ока. Эти слова звучали так: «Алексей, ты не понимаешь, как я доволен, что ты покинул эту греховную организацию. У греков твое имя звучит как защитник. Так иди и защищай!»
С тех самых пор и по сей день я только и занимаюсь тем, что защищаю людей от уголовного преследования. Не представляю интересы, а защищаю. А это не одно и то же.
Мой путь из варяг в греки
Путь из прокуратуры в адвокатуру – это был путь «Из Варяг в Греки»
Алексей Колегов
Однажды, не помню кто, но кто-то спросил меня. «Почему Вы из множества возможных профессий выбрали для себя именно юриспруденцию?»
Но ведь юриспруденция – это не единственная моя профессия, которую я для себя когда-то выбрал. Самая первая моя профессия – это водитель. Обладателем данной профессии я стал в 18-летнем возрасте. В 21 год резко повысил квалификацию до водителя 1 класса. Работал на регулярных городских пассажирских маршрутах на автобусе. Разъезжал на фурах по уральскому региону и не только.
А вот в 24-летнем возрасте я вдруг стал студентом юридического факультета, при том очной формы обучения. Действительно, что же меня подтолкнуло к этому шагу?
Во-первых, у меня очень быстро прошла шоферская романтика. Во-вторых, я не мог переносить тупое руководство и выполнять их не совсем адекватные распоряжения. Например, такие распоряжения, как выезд на неисправном автомобиле на линию. Выглядело это примерно так: «Сейчас на ремонт вставать некогда, встанешь через неделю». Где здесь логика? Через неделю та же песня.
Если честно, то я сейчас не могу дать более или менее ясный ответ на этот вопрос. Дети в таких случаях отвечают: «Потому что!» Вот и я, – не знаю. Может меня просто обуздала новая, более таинственная романтика. Это следственная романтика. Да, именно так и было, скорее всего. Следственная романтика послужила основой моего выбора настоящей профессии.
Но это еще не всё. Есть у меня и промежуточная профессия. Будучи уже студентом юридического факультета, я заочно получил средне-профессиональное образование по специальности бухгалтер-экономист.
Так что на сегодняшний день имею три профессии, ни одна из которых не является для меня невостребованной, поскольку каждая из-них дополняет друг друга.
Передвигаясь из пункта «А» в пункт «В», я на какое-то время становлюсь водителем. А на машине мы, наверное, в наши дни разве что только в туалет не ездим. И то не факт.
В ходе осуществления защиты по уголовному делу в сфере экономической деятельности навыки бухгалтерского учета приходятся как никогда кстати.
Таким образом, все три мои профессии в настоящее время мною востребованы. И это неважно, что две из-них не приносят самостоятельного дохода.
Каким был мой путь из прокуратуры в адвокатуру?
Это был путь «Из Варяг в Греки». Не могу сказать, что он был тернистым. Этот путь достаточно накатанный, так как сотни адвокатов прошли им и только единицы пожалели.
Переход из прокуратуры в адвокатуру особых кардинальных изменений для меня не произвел. По своей сути работа очень напоминает прежнюю. Только полярность целей и задач поменялась диаметрально в противоположную сторону. Но одно кардинальное изменение все-таки было. Это отсутствие начальства. Сам себе режиссер. Все зависит только от самого себя. Вот именно это вдохновляет.
Прокуратуре надо отдать должное, это отличная и суровая школа юриста-практика, где ты действительно становишься специалистом, если, конечно, не сломаешься. Но прозябать в ней до пенсии, на мой взгляд, бесперспективно. Пустая трата времени. Именно в адвокатуре я вижу то непаханое поле для самореализации.
А если честно, то вся причина в том, что мое имя – Алексей – в переводе с греческого языка – защитник. «Вот иди и защищай!», сказал однажды мой дед.
Меня часто спрашивают, с какими категориями дел мне нравится работать больше всего.
В настоящее время, так сложилось, что большинство уголовных дел, в которых мне приходится участвовать, относятся к «экономическим» категориям.
Почему?
Клиентам нравится, значит и мне нравится. Взаимный интерес всегда влечет. Нравится сам процесс, а выбор категории дел от меня меньше всего зависит. Мне, например, нравится земляника со сливками, а рыбе почему-то нравятся червяки. Идя на рыбалку, я же не беру с собой землянику, чтобы прикармливать ею рыбу. А иду копать червей. Потому что рыба желает получить от меня именно червей. Именно поэтому от нас с вами редко зависит то, что мы любим сами. Именно так когда-то говаривал Д. Карнеги.
Иными словами, я бы с огромным желанием представлял интересы звёзд шоу-бизнеса в их бракоразводных процессах. Но обстоятельства складываются именно таким образом, что мне приходится работать преимущественно в указанных выше сферах, поскольку именно в них возникает наибольшая потребность во мне.
Были ли в моей практике курьезы, которыми можно было бы поделиться с вами?
Сколько угодно.
Вот один пример.
Знаете ли вы, что такое предмет преступного посягательства?
Все правильно. Это предметы внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник, например автомобиль при угоне, иное имущество при краже.
А что такое орудие преступления?
Это те предметы, которые используются преступником для совершения преступления, например, огнестрельное или холодное оружие при разбойном нападении или убийстве, отмычки при краже и т. п.
Так вот. Однажды при рассмотрении в суде уголовного дела об изнасиловании, молодой гособвинитель, вчерашний студент, в своей обвинительной речи очень сильно увлекся теорией уголовного права, в частности, описанием преступного деяния, разбивая его по признакам состава преступления, что, на мой взгляд, не всегда необходимо.
Речь молодого прокурора звучала примерно так: «Объектом данного преступления является половая свобода или половая неприкосновенность потерпевшей. Объективная сторона характеризуется совершением полового сношения против воли и желания потерпевшей. К субъекту данного преступления относится вменяемое физическое лицо мужского пола, достигшее 14-летнего возраста, каковым и является Сидоров. Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. То есть виновный осознает, что вступает в половое сношение против воли потерпевшей и желает этого. ПРЕДМЕТОМ преступного посягательства является…»
Не ожидая столь стремительного развития событий в рассказе прокурора, мне пришлось прервать своего процессуального оппонента следующим вопросом.
«И что же является предметом данного преступного посягательства?»
Гособвинитель сначала не совсем понял, что происходит, затем, видимо осознав всю курьезность своего повествования, засмущался и был готов лопнуть от стыда.
Судья, чтобы разрядить обстановку, сделал мне жирное замечание. Почему именно мне? Наверное, потому, что я без его разрешения прервал жгучую речь его единомышленника.
А если бы не прервал?
Тогда он бы в эйфории своей речи и до «орудия» данного преступления добрался. Как говорится, все, что не делается, делается к лучшему.
Кстати, друзья мои, такие преступления, как изнасилование, оскорбление, дезертирство, предмета преступного посягательства в теории уголовного права не имеют.
Это я вам так, на всякий случай говорю.
Часть общая
МНОГИМ ИЗ ВАС
ЭТО ПОКА НЕ ИНТЕРЕСНО
Глава первая
.
Что такое правосудие
Что же такое правосудие?
Поскольку цель судебного разбирательства состоит в установлении виновности или невиновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, то правосудие можно назвать следующим образом. Это правый суд, решение по закону, по совести, то есть – правда. Если по-простому, то в суде происходит поиск той или иной правды. Правда у каждого своя, поэтому суду необходимо определить, кто прав, а кто не прав, то есть виновен или не виновен.
Можно дать и другое определение.
Правосудие – это высшая юрисдикционная деятельность, осуществляемая непосредственно судами от имени государства, на основании Конституции и действующего законодательства РФ, для решения вопроса о виновности либо невиновности лица, обвиняемого в совершении того или иного преступления.
А можно и говорить о том, что правосудие – это процессуальный порядок судебного разбирательства, который призван создать оптимальные условия для установления истины, обеспечивать обоснованность и законность, объективность и справедливость судебных решений, недопущение и устранение ошибок.
Но это все в идеале, конечно. На мой взгляд, правосудие – это ПРАВО СУДИТЬ, данное конкретному человеку, со своими проблемами и «тараканами в голове», то есть судье.
И вот почему.
Ко мне обратился человек, который незаконно отсидел лишние 8 месяцев в местах, как говорят, не столь отдаленных.
По приговору суда от 29 июня 2010 года ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год в колонии общего режима. В приговоре судья указал, что необходимо исчислять срок наказания с 29 июня 2010 года (то есть с момента провозглашения). Но почему-то забыл судья, что в соответствии со ст. 72 УК РФ, осужденному необходимо зачесть в срок отбытия наказания время его задержания и время содержания под стражей в качестве меры пресечения с 1 октября 2009 года по 28 июня 2010 года включительно.
Множество жалоб направил в различные инстанции обратившийся ко мне человек, в том числе и в суд, о приведении приговора в соответствие с законом. Но всюду следовал отказ. Формулировка отказа была краткой, без приведения каких-либо логически здравых, основанных на законе мотивов: «Приговор городского суда является законным и обоснованным. В удовлетворении ходатайства осужденного – отказать».
Но где здесь законность? Где обоснованность? Неужели и остальные судьи, как районного звена, так и вышестоящие, настолько слепы, что не видят элементарное нарушение закона. Правила о зачете в срок отбывания наказания времени задержания и содержания под стражей известны любому студенту третьекурснику юридического факультета. Верховный Суд вернул ходатайство без рассмотрения с формулировкой о подведомственности подобных дел суду районного звена.
И вот – чудо свершилось! Когда срок отбывания наказания уже истекал, городской суд по очередной жалобе осужденного наконец-то привел приговор от 29 июня 2010 года в соответствие с законом. То есть зачел время задержания и содержания под стражей в срок отбытия наказания. Но вот только, с учетом вступления в силу (10 дней) данного постановления суда, срок отбытия наказания у обратившегося ко мне парня уже и так подошел к концу. В результате чего, освободился он день в день, как это предписывал «ошибочный приговор».
Как вы считаете, это судебная ошибка? Или это судебный произвол? Мог ли судья с 15-летним стажем работы так ошибиться? А могли ли вышестоящие судьи не заметить этой «ошибки»? И что вообще значит словосочетание: «Судебная ошибка»? Разве может судья ошибаться, в то время, когда он вершит правосудие, решает судьбу человека?
Ведь налицо факт незаконного лишения свободы в течение 8 месяцев. Отца, заточившего своего нерадивого ребенка-наркомана под «домашний арест» в изолированной комнате, осуждают по ст. 127 УК РФ – незаконное лишение свободы. Это считается преступлением. А судья, который отмерил человеку лишние 8 месяцев тюрьмы, всего лишь допустил «ошибку».
Может быть, он и действительно, допустил ошибку. Но почему эту ошибку никто не видит? Ни прокурор, ни другие судьи, в том числе и вышестоящие. Осужденный им сам напоминает в своих многочисленных жалобах и ходатайствах: «Граждане судьи, обратите внимание, ошибочка вышла…» А в ответ: «Сиди спокойно! Ошибок в суде не бывает!»
Почему, даже когда суды апелляционной инстанции, соглашаясь – что крайне редко бывает – с доводами апелляционной жалобы осужденного или его защитника, в своих определениях пишут следующее. «Суд первой инстанции ошибочно(?) квалифицировал действия подсудимого…», «Ошибочно пришел к выводу о виновности… и т.п.». Почему же они не пишут: «Суд нарушил закон», «Суд допустил преступную халатность», «Суд преступно пошел на поводу общественного мнения или указания сверху».
Почему?
Глава вторая
.
Что такое судебная ошибка
В уголовной юстиции достаточно распространен термин «судебная ошибка». Каждый раз, когда приходится слышать это словосочетание в том или ином контексте, мне хочется крепко выразиться. Меня особенно приводит в негодование, когда это словосочетание употребляется в текстах решений судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Таким образом, вышестоящие суды, по сути, признают, что правосудие у нас далеко не является безупречным.
Но и такое признание встречается крайне редко. Служители Фемиды не привыкли выносить сор из избы, отчего не всегда готовы признавать свои ошибки публично.
Что же такое «судебная ошибка»?
Судебная ошибка – это осуждение человека и, как следствие, его наказание за преступление, которое он не совершал. Или ошибка, описанная в предыдущей главе, когда суд назначил наказание на 8 месяцев больше, чем по закону положено. А вышестоящие судебные инстанции никак признавать этого не хотели.
Судебная «ошибка» – это нонсенс. Никаких ошибок быть не должно. Особенно когда вершишь ПРАВОСУДИЕ.
Представьте себе пилота пассажирского самолета, который вдруг бы допустил непростительную ошибку. Представьте себе ситуацию, когда из-за ошибки пилота в авиакатастрофе погибают все пассажиры. В том числе и сами пилоты.
Как вам такого рода ошибка?
Но за эту ошибку пилоты претерпевают самое, что ни на есть, суровое наказание. Они расплачиваются за свою ОШИБКУ собственной жизнью.
Вспомните столкновение двух судов в Новороссийской бухте. Одним из этих судов был пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». Цена катастрофы сопоставима разве что с катастрофой «Титанинка». Погибли сотни людей.
Кто виноват? Кто допустил ошибку?
Оба капитана.
Этих капитанов суд приговорил к 15 годам лишения свободы каждого. Таким образом, капитаны обоих судов поплатились за свои роковые ошибки ценой собственной свободы.
А что происходит, когда суд допускает ошибку?
Ничего!
В лучшем случае отменяется «ошибочный» приговор. Но в последнее время мечтать об этом приходится все реже и реже.
Одной из причин нежелания вышестоящих инстанций исправлять подобные судебные «ошибки» является нежелание последних подрывать авторитет судебной власти в целом. В противном случае, у общества неминуемо бы возник вполне законный вопрос – А судьи кто?
Обычный водитель обычного автомобиля, допустив по неосторожности дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом других участников дорожного движения, неминуемо осуждается, как правило, к лишению свободы. И, таким образом, этот водитель несет ответственность за свою ошибку. Ценою собственной свободы.
А почему судья не несет никакой ответственности за свои «ошибки»?
Потому что старшие товарищи товарищей, постановивших «ошибочный» приговор, никак не признают «ошибки» за ошибки.
А если иногда и признают, то несут ли младшие товарищи за свои ошибки какое-нибудь наказание?
Нет, не несут. Потому что ответственность за судебные «ошибки» у нас законом не предусмотрена. Ну, ошибся и ошибся. С кем не бывает.
«Особый статус» судьи за подобные промахи его всегда спасает от ответственности.
Самое страшное еще и то, что в случае обнаружения такой ошибки, судейское сообщество не всегда желает ее признать и принять волевое решение к ее исправлению.
Наиболее серьёзными случаями считаются, когда неправомерное осуждение не отменяется в течение нескольких последующих лет или до того, как неправомерно осужденный человек был казнён или умер в тюрьме.
Напомню вам хорошо всем известный хрестоматийный пример.
Дело было в Советском Союзе.
В районе городов Витебска и Полоцка на протяжении 14 лет находили трупы изнасилованных женщин. Всего их было 36.
Правоохранительные органы установили личности преступников и предали их суду. Было проведено 11 судебных процессов, осуждено 14 человек, из них одного успели расстрелять, один сам наложил на себя руки, еще один сошел с ума, а остальные получили длительные сроки заключения.
По истечении 14 лет, когда некоторые из осужденных успели отсидеть, кто 13, а кто 10 лет, вдруг выяснилось, что все эти убийства совершил один человек – некто Михасевич. Он жил в городе Витебске, был сотрудником правоохранительных органов, и у него были жена и дети.
При проверке выяснилось, что все 14 лиц, осужденные за совершенные им преступления, были невиновны.
Это далеко не единственный случай судебной ошибки по уголовному делу.
Общество требует от власти расправы над супостатом. Большое и малое полицейское начальство требует от своих подчиненных отыскать такого супостата во что бы то ни стало. И такой супостат часто быстро находится. А дальше происходит процессуальное оформление уголовного дела по достаточно известной в узких кругах схеме. Оперативно-следственные методы доказывания, а в последующем и судейские ухищрения, применяемые при оценке представленных в суд доказательств, не меняются годами.
В следующей главе я приведу вам более прозаический пример судебной ошибки, основанной на фальсифицированных материалах предварительного следствия.
Вы, может быть, скажете, причем здесь тогда суд, если именно следствием сфальсифицированы материалы дела. Ответ будет простым. Для этого и существует судебное следствие, в ходе которого необходимо непосредственно проверить все материалы предварительного расследования. А не слепо брать их за основу приговора.
Глава третья
.
Заплати долги своей свободой
«Верить в наше время нельзя никому! Даже самому себе… (пауза) Мне можно». (Мюллер)
Дело происходило следующим образом. Оперативные сотрудники госнаркоконтроля (ГНК) задерживают наркомана с весом героина, достаточным для квалификации его действий в хранении наркотических средств в особо крупном размере. Тут же предлагают ему сделку.
В случае если он сдаст им продавца, то в отношении его самого, дело будет замято. Ему только следует назвать данные о продавце, созвониться с ним и договориться о покупке очередной порции зелья. Иначе говоря, произвести проверочную закупку. Недолго думая, наш слабовольный наркоман принял предложение, от которого он не смог отказаться.
Оперативники разъяснили наркоше алгоритм его действий. Он должен был созвониться с продавцом и договориться о покупке товара в определенном месте за определенную сумму.
Но поскольку наш герой побоялся сдавать операм реального продавца, так как в противном случае для него это неотвратимо влекло крайне негативные последствия, он решил разыграть карту следующим образом.
Вспомнив о том, что буквально вчера, один его знакомый парень просил у него в долг 10000 рублей. *В качестве ремарки, хочу заметить, что наш герой-наркоша был ярким представителем «Золотой молодежи», поэтому денег взаймы у него просили часто.
Воспользовавшись этим обстоятельством, он созвонился с просителем займа и сообщил ему, что готов дать ему необходимую сумму. Таким образом, они договорились о встрече на следующий день в такое-то время, в таком-то месте.
Параллельно, наш золотой мальчик-наркоманчик посетил точку сбыта наркоты, где он был постоянным и желанным клиентом, приобретя там необходимый, для задуманного им коварного плана, порошок.
Данное приобретение он вложил в нефункционирующий почтовый ящик одного из подъездов дома, расположенного вблизи с местом завтрашней встречи с заемщиком.
Затем, после решения всех организационных вопросов, наш герой подался в Управление ГНК, где сообщил курирующему его оперативнику, что в такое-то время и в таком-то месте у него забита стрелка с продавцом. Приобретать будет товар весом на сумму 10000 рублей. Сотрудники ГНК вручили нашему Золотому мальчику-наркоманчику деньги в сумме 10000 руб., обработанные специальным порошком. Кроме того, все номера и количество купюр были переписаны в соответствующий протокол.
И вот, наш герой, в условленное время, под чутким наблюдением оперативников, направился в условленное место встречи со своим ничего не подозревавшим товарищем.
Встретившись со своим заемщиком, Золотой парень передал ему деньги, напомнив о сроках их возврата. Довольный заемщик шустро направился восвояси, где вскоре был перехвачен операми. В ходе его личного досмотра, естественно с участием понятых, у него были обнаружены меченые денежные купюры в сумме 10000 рублей.
А в это время наш герой дня повел вторую оперативную группу в подъезд дома, в почтовом ящике которого были обнаружены пакеты с героином, якобы вложенные в него тем самым продавцом, которого только что взяли с мечеными деньгами опера ГНК.
Не правда ли гениально? Да. Наш герой оказался злым гением, который ради спасения своей шкуры, отправил своего хорошего знакомого на 10 лет в места не столь отдаленные.
Суд не поверил ни одному слову подсудимого, расценивая его показания как форму защиты с целью избежать уголовной ответственности. Остальная совокупность доказательств причастности его к сбыту наркотических средств в особо крупном размере была достаточно убедительной для суда. Исход процесса был однозначным. А подсудимый был обречен на 10 лет.