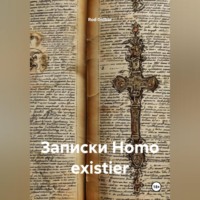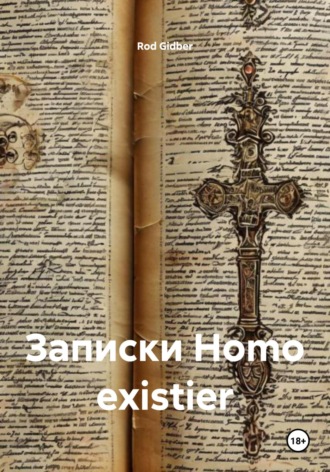
Полная версия
Записки Homo existier
Уже давно говорили о человечестве как о некоем целом, как об огромном организме, впившемся в тело маленькой планеты и сосущем ее, как младенец сосет свою мать. Но пора бы уже повзрослеть и как подобает благодарному сыну, самому позаботиться о своей родительнице. О многих вещах мы рассуждаем именно так. Метафорический язык есть язык науки и в этом мало кто сомневается. Необходимо только в его употреблении соблюдать меру, не выхолащивать содержание и не превращать серьезное в юмористическое. Мне кажется, что наша современная ситуация отношения к метафорическому языку аналогична тому отношению, сообразно которому древний грек относился к своему мифологическому. Просто времена были разные. Я могу употребить выражение «социальное тело» или понятие «общество» заменить соответственно на «организм», подразумевая то же самое и сохраняя все существующие функциональные отношения, но зато взамен получая более наглядные и привычные представления о внутренних взаимосвязях различных органов. Я знаю, что общество менее совершенное образование, чем живой организм. Но знание этого дает мне как направление усовершенствования, если я какой-нибудь добросовестный чиновник, так и конструирование теоретических схем и обоснование различных выводов из них, при условии допущения, что общество и на самом деле неплохой организм. Или, напротив, я вижу всю нелепость моих предпосылок. В математике это называется доказательством от противного. Но сначала допустим, что это неплохая модель, позволяющая делать адекватные выводы. Например, один из таких желаемых выводов из представления общества в виде организма заключается в том, чтобы в каждом человеке видеть необходимый и незаменимый орган. Другой вывод может быть сформулирован следующим образом: если один орган болеет, то недомогает организм в целом, следовательно, в совершенном обществе здоровье и счастье всех зависит от здоровья и благополучия каждого в отдельности. Наконец, ни один орган не может жить изолированно от других, так как каждый из них, являясь необходимым узлом внутри целостной системы, может полноценно функционировать лишь на благо организма в целом.
Во всем этом есть доля правды, иногда такой правды, что после этого не только пропадает желание разглагольствовать о высоком призвании, но даже простая операция выкапывания картошки выглядит издевательством над всей твоей сущностью. После этого понимаешь, что блаженны животные и нищие духом, которые умилительно счастливы уже одной своей удачной попыткой подавить самое простое из немногих своих желаний. Конечно, общество, может быть, устроено примерно как организм и не обязательно в привычном нашем понимании, но ведь человек вовсе не похож на простой орган, подчиненный целиком интересам общества. Хотя многие думают именно так. И именно простые и грубые идеи наиболее востребованы не только в кругу любителей пива, но и в среде так называемых титулованных особ. Последние посредством своего цинизма и крепкой осознанностью своей правоты скорее предпочтут теорию Мальтуса на основе геометрической прогрессии, чем какие-то синергетические теории для сложноорганизованных, саморазвивающихся и нелинейных систем. Когда говорят, что призвание вырастает в ответ на социально-историческую потребность, они тем самым умаляют его ценность, хотя до этого задавались целью возвысить его до небес, до абсолютного и даже выставляли единственным в своем роде инструментом, противодействующим увеличивающейся энтропии самой Вселенной. Сейчас у нас в моде автомеханики, юристы, бухгалтеры, менеджеры, чиновники, программисты и т. п. Судьба всего мироздания в их руках. Я бы сказал, что призвание – это уютное местечко, избавляющее человека от излишних вопросов, то есть делающее его счастливым и довольным. Кроме этого, это удел тех, кто обладает нюхом, честолюбием и беспринципностью, поскольку они чувствуют и уважают только выгоду, приспосабливаясь и оккупируя самые модные профессии своего времени.
Тем не менее, нельзя отрицать того, что некоторые стороны жизни общества действительно напоминают организм. Возьмем мир профессий. Количество существующих профессий на данный момент намного меньше, чем всех работоспособных людей в пределах даже одного государства. Жизнеспособность государства определяется эффективностью и качеством различных отношений и взаимосвязей составляющих его организаций и производств. Но сейчас меня интересуют не общие и глобальные проблемы, до которых простому человеку и не дотянуться вовсе, а самые насущные, непосредственно стоящие перед каждым человеком. Человек заброшен в мир не на произвол судьбы, а скорее на произвол профессий. Как и сами единичные люди среди людей, профессии подвержены дискриминации и привилегированности. Но суть не в этом. Теперь мы допустили, что уже не люди являются органами внутри общества, а профессии, их предоставленная самой себе жизнь как данность и непреложный факт. С этой точки зрения картина выглядит так, как будто человек полностью растворяется на фоне мельтешащих и самостоятельно живущих профессий. Человек только служит своему делу, он где-то в глубине восхваляет его и молится ему, чтобы он и дальше процветал и был в моде. Как же определяется и кем, какая профессия нужна, а какая нет? Кто решает, быть ли дальше египтологу или реставратору, плотнику или электрику, уфологу или писателю, художнику или балетмейстеру и т.д.? Все эти профессии возникли когда-то давно, еще до нашего рождения. Я бы не сказал, что человек зависим от профессии, но он так или иначе оказывается выставленным перед фактом выбора того или иного вида работы. В пределах человеческой жизни и даже в течение столетий многие профессии сохраняют свою устойчивость и востребованность. Следовательно, относительно счастлив тот, кто, имея определенные наклонности, выбирает себе именно эту, уже готовую профессию. «Счастлив тот, кто устроил свое существование так, что оно соответствует особенностям его характера» (Гегель). Однако это всего лишь внешняя сторона вопроса, не затрагивающая такого высокого понятия как призвание. Проследить его происхождение и пути дальнейшего движения и развития – дело совсем иного порядка. Нам говорят, что мы должны самоотверженно служить своей профессии, своему делу и на этом как бы заканчивается наша компетенция, так как этого с лихвой хватает для отмеренного нам промежутка земной жизни. Здесь мы подошли к самой границе, где заканчивается привычное и грубое представление о профессии с ее земными корнями, и начинается совсем другая «земля», которая к настоящему времени почти не возделана. Я могу лишь говорить об этом, чувствуя истину в самом себе, но без возможности выставить ее перед другими, как выставляют стул для гостя. Мы должны быть благодарны профессии, потому что она позволяет выразить через себя нас. Профессия – это не что иное, как грань человеческого духа и способ его существования; все профессии вместе взятые воссоздают недостающие его части. Поэтому, живя в обществе, мы нуждаемся в других людях, в разнообразии других профессий, так как они дополняют и достраивают нас. Однако каждая грань в свою очередь может отражать в себе целостного духа, то есть нашу индивидуальность. Тернистый путь всякой земной жизни грубо отталкивает всякую идеализацию, не поддающуюся количественному измерению.
12.11.06. Мое положение выгодно тем, что я использую обыденный язык для передачи совсем необыденных понятий. Это могло бы называться популяризацией, если бы я, придерживаясь системы и метода, то есть согласно общепринятому некогда объему знаний и плану изложения, решил заново преподать эту область знаний на свой страх и риск, но в более облегченной, более живой, более увлекательной, более индивидуальной и может быть даже в более полной форме. Но ни того, ни другого тут нет. Некоторые писатели и ученые специально занимаются таким подвидом писательской работы. Особенно много их было в советское время, когда идеологический материализм требовал восхищения наукой, ибо кто еще более материалистичен, чем ученый муж. На поприще популяризации в советской стране преуспели многие. Художественные или романизированные биографии признанных ученых, которые к тому же успели порадеть за мир, пользовались большим спросом. О революционерах и философах, этих гигантах, на плечах которых был вынесен весь исторический и диалектический материализм и говорить нечего, их жизнь и учение всегда можно было обнаружить в библиотеках, они всегда стояли на самом видном месте. Я хочу выразить свою благодарность выдающимся переводчикам советской эпохи. Это было одно из немногих, но поистине передовых производств, способных конкурировать на всемирном рынке качества. Из профессиональных писателей, кто создавал художественные биографии ученых или их фрагменты, можно назвать Даниила Гранина, который и сам закончил политехнический институт. Следовало бы упомянуть многих искренних ученых, которые писали не в силу навязанных свыше «ответственных и почетных» поручений, а в силу своей собственной любви и уважения к тому или иному ученому. Такова, например, книга И.М. Забелина об Александре Гумбольдте, а до него В. Сафонова, чья любовь и поклонение науке во многом предопределили судьбу самого автора. Как не восхищаться Марией Складовской-Кюри, которая с мужем из пяти тонн руды добывали один грамм радия. Эта «стахановская» работа не могла быть не замечена в советской стране.
Воспоминания и мемуары тоже были в моде. Н. Бор, Э. Резерфорд, А. Эйнштейн, М. Планк, М. Борн, В. Гейзенберг, В. Паули, П. Кюри и Мария Складовская-Кюри, Э. Шредингер, Л. де Бройль, Э. Ферми, П. Дирак, Р. Фейнман и многие другие известные физики – самые частые имена в книгах воспоминаний «случайных» очевидцев, встречавшихся и общавшихся с ними, работавших когда-то вместе (как, например П. Капица). Конечно, нельзя не сказать и о переводной литературе, которая хотя и восполняла недостающее, но только дозволенное. К таковым относятся, например, произведения Ирвинга Стоуна, в частности его романизированная биография Ч. Дарвина.
Мариэтта Шагинян и Галина Серебрякова писали о самых почитаемых вождях и идолах коммунистической идеологии. Первая писала о самом человечном человеке В.И. Ленине, а вторая – о К. Марксе, почти боге. В большой трилогии «Прометей», где чувствуется настоящий дух европейской жизни того времени, герой пожертвовал всем, что он мог бы получить от общества, не будучи так сострадательным к нуждам простых людей и имея такие выдающиеся способности (что на самом деле подвигло его на эту стезю, лучше справляться у более беспристрастных его биографах, например, у Ф. Меринга). Он мог бы стать министром. Богатство и титулованность его жены могли открыть перед ним любые двери и дать полный простор для безмятежной и плодотворной умственной работы. Наконец, его любила одна из самых красивых женщин, какие только можно себе представить, которая к тому же была умной и преданной до невозможности, что подтверждает вся их дальнейшая, полная горя и лишений жизнь. Здесь же присутствует его верный друг и соратник Ф. Энгельс, который в такой же мере пренебрег всеми преимуществами положения фабриканта ради своих идей и убеждений. Но Энгельсу все-таки пришлось много лет и против своей воли провести на фабрике, пожертвовав время своей жизни другу, а через него и той грядущей цели, которая должна была преобразовать человечество.
Можно еще упомянуть Стефана Продева, художественно воссоздавшего жизнь молодого Ф. Энгельса, еще до знаменательной, но уже предрешенной встречи с его будущим другом и единомышленником. Из многочисленных работ советских авторов, всегда отличавшихся «серьезностью», работа Н.И. Лапина о молодом К. Марксе несколько выходит за рамки, представляя собой соединение слегка художественного и научного.
Что касается воспоминаний современников, писем и переписок К. Маркса и Ф. Энгельса со своими близкими, с другими известными революционерами и, конечно же, между собой, то их было более чем достаточно.
Если говорить о стиле письма, то мне особенно нравится стиль Ф. Энгельса. Когда-то они были и моими кумирами. Временами я поныне перечитываю многие из их работ. Я уж не говорю о том, как советская действительность исказила наиболее существенные моменты их теории, и как однажды самая утопичная утопия, получив шанс стать реальностью, на протяжении многих десятилетий не укреплялась, а самым безответственным и порочным образом убивалась «на корню» (по-моему, это было любимым выражением политработников, судя по кинофильмам).
Настоящим идеологом и зачинателем популяризации в советскую эпоху был Я.И. Перельман. Отсюда и пошла вся последующая увлеченность ученых всех мастей и направлений выставлением своей и смежных областей знания в доступной форме перед так называемыми широкими слоями населения. Среди этой литературы встречались истинно красивые вещи. «Жизнь растения» К.А. Тимирязева – настоящий шедевр, написанный знаменитым ученым. Признанным мастером популяризации был не менее известный ученый А.Е. Ферсман.
Отдельно стоят имена корифеев, не только выдающихся писателей, но одновременно и тех, про которых говорят, что они – ум, честь и совесть эпохи. Я поставлю в этот ряд, по меньшей мере, четыре имени: Ромен Роллан, Стефан Цвейг, Андре Моруа, Томас Манн.
13-16.11.06. Что касается температуры, то она уже неделю не опускается ниже нуля. Погода стоит безветренная и лежит немного снега. Он успевает за день подтаять настолько же, насколько нападает. Стоит еще раз возвратиться к осмыслению того, что мы называем физическим и умственным трудами и так часто упоминаемыми и замечаемыми отличиями между ними. Поскольку я уже определился для себя с внутренним содержанием, с сутью профессии или, как у нас говорят, дела, то в дальнейшем я уже буду говорить и описывать только внешние ее проявления, феномены ее земной жизни. Физический труд в большинстве своем всегда направлен на неодушевленный предмет и результат этого труда, как правило, предназначен для удовлетворения плоти. Каменщик строит дома, чтобы в них жить; столяр делает стулья и столы, чтобы на них и за ними можно было сидеть. Однако так ли это на самом деле, то есть, удовлетворяем ли мы только плоть, имея перед собой продукт физического труда? Можно назвать много профессий, где важно удовлетворить потребности человека не материально, а делая приятное его душе. В наше время вещи не только должны быть удобными для нашего тела, что вполне естественно, но в них, кроме этого, должен присутствовать некий дух, отпечаток чьей-то души, стиль и вкус мастера, сумевшего запечатлеть саму красоту. Поэтому в пределе, стремящемуся к идеалу, трудно назвать профессию, где бы наблюдался явный переход от труда физического к труду умственному. На самом деле мы имеем социальное разделение людей, выполняющих в одном случае грубую и грязную работу с использованием исключительно мускульной силы, а в другом – все прочие, мускульная работа которых не превышает силы, необходимой для приподымания ручки и нажимания кнопки. Писательское ремесло в этом отношении находится довольно далеко от центра схождения противоборствующих сил, потому что в работе писателя перо и бумага имеют ничтожно малое значение. Исписанная бумага для потребности тела может быть использована в самую последнюю очередь, когда, например, все остальные предметы мира каким-то образом исчезнут с лица земли. Но это не главное. Главное то, что истинно писательская работа как бы вовсе выставляется за скобки. Она не участвует в дележе социальных приоритетов. Она не может быть ни модной, ни полностью отвергаемой. Она относится к категории терпимых и позволяемых, она есть некий излишек. Но, честно говоря, это такой излишек, ради которого делается всякая работа – и грязная, и нудная.
Наблюдается интересное явление: тот, кто имеет дело с физическими предметами, стремится угодить душе человека, а тот, кто непосредственно работает для удовлетворения души, в конечном счете, управляет телом человека. Красивые вещи мы покупаем, руководствуясь велениями нашего сердца, наших чувств, помыслов и надежд. Покупая вещи, мы исходим либо из приобретенных нами вкусов, либо из знания каких-либо сведений о данных вещах. Прочитав ту или иную книгу, мы стараемся поступать в соответствии с понравившейся нам идеей или мыслью. Мы начинаем обустраивать нашу телесную жизнь, строить свое окружение, беря стимул от полученного нами общего образования и воспитания, реальное содержание которых мы также почерпнули из прочитанных нами книг, добрых слов и примерного поведения людей, достойных подражания. Поэтому говорят, что наше тело есть выражение нашей души.
17.11.06. Каждый день преподносит нам сюрпризы, абсолютно не считаясь с нашими желаниями. Мы ходим под солнцем уже много тысяч лет, но человека никогда не покидает мысль о бренности и абсолютной беззащитности человеческого существа. За все эти миллионы лет Земле было достаточно встретиться с каким-нибудь астероидом или одним из любых миллионов подобных причин, чтобы человеческая и любая другая жизнь перестали существовать. Разумная жизнь, зависящая от простой концентрации кислорода в атмосфере планеты, – что еще может быть менее устойчивой во всей Вселенной. Кажется весьма несимметричным такое положение дел, когда с одной стороны простейший химический состав, поддерживающий человеческую жизнь, а с другой – столько потрачено человеческой силы, физической и душевной, чтобы построить всю земную цивилизацию, со всей ее культурой, техникой и страстями. На этом фоне неустойчивости кажется ничтожно незначительной все эти человеческие игры в любовь и ненависть. Великий Кант говорил, что только крайности придают миру его цену, лишь средний уровень устойчивость. Чтобы человек стал разумным, требуется большое горе; чтобы люди стали ценить друг друга, требуется вторжение инопланетян. Во всем этом есть большая доля истины и, наверное, именно она представляет собой ту реальность, перед которой человеку остается только преклонить колени. Именно от человека исходит смертельная угроза, но никак не от окружающей природы. Природа слепа и пассивна, в то время как человек активно претворяет свою агрессию в жизнь. Люди считают, что человек должен быть сильным, точно в таком же смысле, как понимается значение силы в мире животных. Они считают, что выживает сильнейший. Более того, они на самом деле полагают, что не только выживает, но и должен выживать. Поэтому они считают, что некоторые люди, не имеющие никаких агрессивных качеств, должны не иметь потомства. Я это говорю потому, что сам непосредственно слышал такое из разговоров между людьми с хорошим достатком и хорошо устроившимися. Я не придаю этому большого значения, хотя сам с этой точкой зрения ни в коем случае не согласен. Люди в своей жизни на девяносто девять процентов тратят себя на такие дела, ценность которых, в истинном смысле этого слова, исчезающе мала. Я бы очень хотел сказать, что бы я делал в своей жизни, чтобы она не превратилась в гонку под названием «не отстать от сильнейшего». С помощью слов этого не выразить, потому что уже завтра жизнь начнет «смеяться» над тобой и твоими словами. Единственное место, где это выражено словами, наперекор смеющейся жизни, – это Библия. Как я уже сказал выше, в этой Книге жизнь не застыла в мгновении, но как будто время вплелось в нее. Люди все еще отождествляют физическую жизнь и физическую силу с самой Жизнью, хотя всем известно, что физическая сила человека не идет ни в какое сравнение в борьбе хотя бы с самыми ничтожными силами природы. Но зато они отлично знают, какой физической угрозы следует опасаться и с какой стороны ее ждать.
18.11.06. Что ни говори, но материальный мир каждый день доказывает свою силу. Человек пытается противостоять ей в своих мыслях, а по существу в своих чувствах, тешит себя надеждой в их значении, но суровость и безразличие внешнего мира предстает перед ним как каменная стена. Хорошо тому, кто уверовал в это, кто стал верным служителем мира сего. Можно даже позавидовать такому человеку, для которого существующий мир идет навстречу. Иногда приходит мысль, что настоящая истина на его стороне, а нам, идеалистам, остается жить, довольствуюсь химерами. Спрашивается, где найти аргументы в защиту того, что и твоя жизнь имеет право на существование. Я знаю, что жизнь идеалиста не лишена смысла. Это я попытаюсь сейчас высказать. Первое и основное, на что нужно обращать внимание – это честность и полное изживание себя в мысли. Никогда не следует врать самому себе, что ты делаешь какое-то дело хорошо, если на самом деле чувствуешь неудовлетворенность своей работой. Это касается любого дела: и физического, и умственного. Работа в полсилы, может быть, и сохраняет человеческое тело и здоровье, но разрушает душу. Поэтому человек свою работу должен делать до последнего изнеможения. Что касается мыслительной работы, то здесь особенно нужна тщательность и сноровка, потому что, как я уже говорил, «уловить» мысль не то же самое, что почувствовать крепость рукоятки лопаты. Мысль должна вырываться изнутри с кровью, только так можно почувствовать ее силу и правдивость. Выражение «философствовать молотом» относят к Фридриху Ницше. Теперь, что касается физической работы, которую принято считать «настоящей» или «истинной» работой, потому что эта работа «от мира сего», а все остальное может считаться случайным приобретением, случайно привставшим к человеческому обществу. Во-первых, нужно сказать, что работа сама по себе, безотносительно к человеческому обществу не существует. Значение и ценность работы всецело зависит от потребностей общества, – от меры его развития, от моды времени, от всевозможных катаклизмов, будь то войны или стихийные бедствия и т. д. То, что работа никогда не выступает как нечто, что идет с основания бытия, представляет для человека величайшую трагедию. Из-за этого он чувствует бренность своего существования, бессмысленность и бесполезность всего того, что им создано, ибо в один прекрасный день все это может разрушиться до основания. Когда он наблюдает за животными, которые из года в год проделывают одну и ту же операцию, когда пчелы или муравьи с бессмысленной настойчивостью восстанавливают свою прежнюю работу, разрушенную случайными прохожими, то перед человеком непременно появляется картина трагедии Сизифа, над которым смеются безжалостные боги. Но эта боль усиливается еще больше, когда он приходит к мысли, что все наши стремления и наша работа объясняются таким же проявлением инстинкта, каковое мы видим на примере наших братьев меньших. Действительно, ни один здоровый человек не задумывается и не приходит в отчаяние от осознания бесполезности своего существования, он живет потому, что в нем заложен определенный запас энергии и пока этот запас не будет исчерпан, он будет цепляться за жизнь. И лишь некоторые, по словам психиатров, нездоровые психически, кончают жизнь самоубийством или слишком часто задумываются о смысле своей жизни (не все так думают, чему является подтверждением высказывания В. Франкла). Даже животные способны на самоубийство и этот пример только подтверждает наше родство с ними. Но самый большой и значимый аргумент в пользу того, что мы такая же естественная часть Природы, как и животные и растения, дает наука – та самая наука, за которой в жизни современного человека последнее и решающее слово и это слово не Бог, а Природа и Инстинкт. Спрашивается, откуда же мы должны находить душевные силы и восполнять нашу волю к жизни, если мы осознаем бессмысленность нашей жизни. Большинство людей живет за счет заложенных с рождения биологических сил, особенно это касается молодых. За удовольствие прожитой жизни они платят временем, которое с каждым днем кто-то тщательно высчитывает с нашей «кредитной карточки». Когда человеческая кровь начинает стареть, физические удовольствия сменяются удовольствиями духовными, созданными не природой, а обществом. Кто-то начинает поддерживать свою жизнь верой, кто-то искусством, кто-то заботой о детях и т. д. Но основная сила, движущая человеком, всегда остается в области физического мира. Так называемые инстинкт к жизни и страх перед смертью до самого конца не оставляют человека. Таким образом, цель человеческой жизни тоже покоится на могучих волнах физического предначертания и по мере его бурления движется в том направлении, которое, как нам кажется, соответствует нашему призванию.
19-26.11.06. Если наука познает окружающий мир, то что же познает философия? В науке, если она хочет двигаться вперед, должно быть все однозначно: термины, понятия, представления и язык. Если представить себе идеальное развитие науки, то ученые в конце концов должны превратиться в муравьев или в элементарные частицы, которые, как они говорят, тождественны друг другу. По-другому, они должны превратиться в саму природу, которая познает саму себя, то есть быть тождественным самому себе. Такое явление я называю замещением в человеке индивидуальной духовности духовностью социальной. Начиная примерно с Огюста Конта, философию начали сравнивать с наукой, предъявляя к ней такие же требования, какие выдерживала наука. С этого времени философию начали считать бесполезной, так как она не может произвести на этот свет истину, поскольку философий и соответствующих ей истин было много и это противоречило тому, что истина должна быть единой и общепринятой.