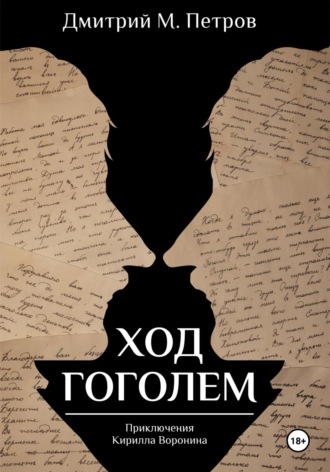
Полная версия
Ход Гоголем
– «Выбранные места…»? – поинтересовался студент.
– Ну что вы, Кирилл! – ахнул Покровский. – «Выбранные места из переписки с друзьями» – последняя книга Гоголя, изданная при жизни! Он называл её «единственной своей дельной книгой», представляете? А ведь уже пять лет как вышли «Мёртвые души»! Правда, это он говорил ещё до издания – потом цензура её изрядно покромсала, к сожалению. Но у меня тут совершенно случайно есть несколько вырезанных фрагментов.
– Никогда не слышал об этой книге.
– Очень жаль! В этих письмах, помимо прочего, Николай Васильевич рассказывает о своих планах на «Мёртвые души», о своём видении этой книги или, точнее сказать, книг. – Учительский тон Всеволода Андреевича делал его похожим на настоящего профессора. – Вы же знаете, что Гоголь планировал трилогию? Если вы хотите проникнуть в тайну второго тома и узнать, почему же Гоголь сжёг его, вам не обойтись без этой книги!
– А письма? Вы говорили о каких-то письмах? Неужели у вас есть оригиналы?
– Если у меня что-то есть, то только оригиналы, – обиженно ответил Покровский. – Для коллекционера ценно лишь обладание подлинником.
Возникло неловкое молчание. Кирилл так и не научился понимать, действительно ли обижался Покровских в таких случаях. А ведь обиделся он далеко не в первый раз – Кириллу уже случалось задевать гордость Всеволода Андреевича. Это, конечно, происходило не специально. Просто иногда он не мог поверить, что столько ценностей и редкостей могут принадлежать одному частному лицу, вот временами и проявлял сомнения.
Букинист нетерпеливо достал свои антикварные карманные часы, взглянул на них и насупил брови.
– Так, подождите здесь, Кирилл.
Всеволод Андреевич скрылся между книжных шкафов и спустя несколько минут вернулся с книгой в одной руке и пачкой писем в другой.
– Зелёное кресло в вашем распоряжении – там и стол чуть побольше, вам будет удобно работать. А я, с вашего позволения, вернусь к своим делам.
Кирилл подумал, что Покровский неспроста предложил ему занять именно это кресло, хотя просторный рабочий стол был бы удобнее – оно находилось на максимальном удалении от угла, в котором он и его тайный гость разыгрывали свою шахматную партию.
Кирилл пожал плечами и направился через ряды книжных шкафов к нужному месту. Он любил зелёное кресло – в меру мягкое, обтянутое приятным бархатистым вельветом, с удобными широкими подлокотниками, оно способствовало максимальному расслаблению и подходило для неспешного чтения интересной книги.
Но сейчас он не мог расслабляться – ему не терпелось побыстрее закончить с подготовкой к докладу и вернуться к своим, несомненно более важным делам. Поэтому в кресле он сел прямо, не опираясь о спинку, приготовил блокнот для заметок и раскрыл «Выбранные места из переписки с друзьями».
– «Я был тяжело болен; смерть уже была близко», – прочитал он шёпотом. – Что ж, ободряющее начало.
Конечно, читать все триста страниц книги у Кирилла не было никакого желания – в основном она представляла собой проповедь и философские размышления на самые разные темы: вера, общество, государство, литература и многое другое. «Мёртвым душам» посвящалось всего четыре письма, вынесенных в отдельную главу. На них Кирилл и обратил своё внимание.
Сколько же интересного он узнал из этих писем! Оказывается, несмотря на то, что «Мёртвые души» являются одним из важнейших образцов русской классической литературы, Гоголь был недоволен книгой! Он соглашался со значительной частью критики, обрушившейся на него и на первый том. Это сейчас «Мёртвые души» считаются главным трудом жизни Гоголя и безусловным шедевром, а сразу после издания современники вовсю критиковали и нереалистичные образы персонажей, и их избитость, и недостоверность сюжета, и плохую редактуру, и безграмотность самого писателя. Он сетовал на то, что даже великий Пушкин, перед которым Николай Васильевич преклонялся, не понял карикатурности идеи, которую сам же Гоголю и подкинул!
С удивлением Кирилл прочитал, что каждого из героев поэмы писатель наделил своими собственными недостатками, а также чертами многих своих приятелей. Но от каждого взял только самое плохое, называя всех прототипов своих персонажей «прекрасными людьми, захватившими всё пошлое и гадкое нечаянно». А вот книжных персонажей, основанных на этих «прекрасных людях», он называл ничтожными, вызывающими отвращение, но при этом писал, что они «вовсе не злодеи». Показать всю мерзость этих людей и было главной задачей первого тома.
Вот как! Персонажи книги, включая, надо полагать, и Чичикова, – мерзкие и отвратительные люди, но «вовсе не злодеи»! Неужели ему не удастся выиграть спор с Решетниковым? Если сам автор не считает их злодеями, значит он, Кирилл, ошибается и не сможет доказать свою точку зрения. Но работу нужно довести до конца – если не ради победы в дебатах, то хотя бы ради оценки.
Он продолжил изучать письма и вскоре понял, что подбирается к тому, ради чего и сел читать книгу. Вот оно! Сейчас Гоголь подведёт к тому, что по задумке, в последующих томах его персонажи должны будут раскаяться и получить искупление, о котором говорил Решетников! Значит, профессор был прав?
В предвкушении ответа Кирилл начал читать последнее, четвёртое письмо: «Затем сожжён второй том «Мёртвых душ», что так было нужно…»
– Стоп, что? – сказал он вслух и тут же осёкся.
«Ну да, всё верно, – подумал он, глядя на дату письма, – 1846 год. За год до публикации этой книги и… за шесть лет до смерти Гоголя и известного всем сожжения рукописи. Выходит, перед самой смертью он сжёг второй том не впервые?»
Это открытие шокировало Кирилла. Как же так, никто и никогда не говорил ему, что Николай Васильевич уже сжигал рукопись второго тома! Почему об этом не пишут в учебниках, не говорят на лекциях? Кириллу пришлось дожить до двадцати лет, чтобы узнать об этом невероятном факте, причём совершенно случайно! Вот только… меняет ли это что-нибудь?
«Да что ж у него за книга такая была? – недоумевал Кирилл. – Сколько он, получается, корпел над этим вторым томом? Десять лет? Чтобы в итоге опять его сжечь и перечеркнуть все труды? Поразительно…»
Это письмо Кирилл изучил досконально и практически дословно переписал его к себе в блокнот.
Гоголь писал, что второй том, над которым он работал целых пять лет, вышел совсем не таким, каким должен был выйти, и его появление в таком виде «произвело бы скорее вред, чем пользу». Он верил, что наступит такой момент, что он легко напишет второй том: «в несколько недель совершится то, над чем провёл пять болезненных лет». Из письма также следовала идея, озвученная Решетниковым: персонажи, проявившие в первом томе всю свою мерзость, должны были преобразиться и предстать совершенно в другом виде – видимо, уже в третьем томе. Второму тому отводилась роль проводника к этому «высокому и прекрасному».
Кирилл закрыл книгу, глубоко вздохнул и откинулся в кресле. Он совершенно не заметил, как пролетело несколько часов, – его начало клонить в сон, но студент твёрдо намеревался закончить всю работу сегодня. Если бы можно было выпить чашку кофе, хоть самого дешёвого, растворимого! Но Покровский запрещал пить и есть, работая с книгами, а если говорить о кофе, то он в «Мельпомене» вообще не водился.
Перейдя от книги к письмам, Кирилл читал их уже без прежнего энтузиазма – он сидел, откинувшись в кресле и подперев голову кулаком, и постоянно зевал, а документы пролистывал скорее машинально, особо не вчитываясь в их содержимое. Там не было ничего, что могло бы вызвать интерес Кирилла – никаких упоминаний «Мёртвых душ». В большинстве своём это были даже не письма в привычном понимании, а короткие записки с приглашениями на обед и благодарностями за ответные приглашения, вежливыми расспросами о чужом здоровье и сетованиями на проблемы со своим. В более длинных посланиях речь часто заходила о Боге – в основном в адресованных матери, Марии Ивановне. Было также несколько благодарственных писем к некоему Шевырёву – в них Николай Васильевич сообщал, что возвращает тому какие-то справочники о Сибири, её истории и природе. «Те самые книги, о которых говорил Решетников, – догадался Кирилл. – Гоголь использовал их при подготовке к написанию третьего тома. Значит, он вот-вот должен был приступить к работе над ним. А может быть, и вовсе приступил».
Но внезапно очередное письмо привлекло его внимание: взгляд остановился на одной маленькой детали, которая на несколько минут захватила все его мысли и прогнала сонливость, как будто её и не было.
– Всеволод Андреевич! – не отрывая глаз от письма, произнёс Кирилл в пространство. – Не могли бы вы подойти?
Послышался мягкое шуршание отодвигаемого кресла и торопливые шаги. Из темноты показался Покровский, впервые на памяти Кирилла без пиджака. Но даже в таком виде – в бархатной жилетке поверх накрахмаленной рубашки – букинист выглядел превосходно, напоминая пожилого английского денди XIX века. Даже весьма объёмный живот ничуть не портил этот образ, а в определённой степени дополнял.
– Да, Кирилл? Вам ещё что-то нужно?
– Всеволод Андреевич, а это точно подлинник? Просто…
– Кирилл, вы меня обижаете. Я же вам не раз говорил: всё, что есть в моей коллекции, – стопроцентные подлинники, – с некоторым раздражением сказал Покровский. – Что это у вас? А-а, письмо Гоголя Шевырёву, 14 февраля 1852 года, за неделю до смерти писателя.
– Кто это – Шевырёв?
– Степан Петрович Шевырёв – друг Гоголя, литературный критик, профессор и декан Московского университета, академик, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Один из умнейших людей своего времени! Именно он был, что называется, душеприказчиком Гоголя – разбирался с его имуществом после смерти и занимался посмертным изданием книг. А ещё именно он придумал термин «загнивающий запад», который вам, безусловно, знаком. Это, впрочем, к делу совершенно не относится. А почему вы засомневались в подлинности этого письма?
– Вот здесь грамматическая ошибка, смотрите. – Кирилл показал пальцем в строку. – Слово «цела» написана через е, а должно – через ять, «цѣла».
– Да, это вполне возможно, – совершенно не удивившись, прокомментировал Покровский. – Ничего странного здесь нет, Кирилл, – грамотность Гоголя всегда подвергалась критике, ведь он был, как бы это сказать, не совсем русским писателем. Хотя и по-украински писал тоже не без ошибок, м-да… Впрочем, после переезда в Петербург их стало заметно меньше – он даже написал учебник по русской словесности. Жаль, издать при жизни не успел… как и многое другое. Но совсем избавиться от ошибок в письме ему так и не удалось. Так что ничего удивительного в этой конкретной нет, поверьте мне.
– А вы, пожалуйста, поверьте мне: так написать не мог ни один мало-мальски грамотный человек того времени! Для них е и ять были двумя совершенно разными буквами и обозначали разные звуки! Вы уверены, что это письмо написал сам Гоголь? – недоверчиво поинтересовался Кирилл.
– Ну конечно! – воскликнул Покровский. – Сравните почерк с другими письмами. Разумеется, я и сам всё это делал, когда приобретал письмо, – проводил экспертизу не только почерка, но и бумаги, и чернил. И не только самостоятельно, но и с привлечением нескольких экспертов. И ни один из них не увидел в этой ошибке ничего примечательного, ведь, как я уже сказал, слабая грамотность Гоголя была общеизвестной.
– То есть всё-таки получается, что Гоголь допустил нелепейшую грамматическую ошибку?
– Получается, что так. В последние дни он тяжело болел: не только физически, но и душевно – смерть близкой подруги сильно на него повлияла. Может быть, дело в этом?
– Знаете, Всеволод Андреевич, я бы мог с вами согласиться, если бы в этом же письме, буквально несколькими строчками выше, слово «целый» не было бы написано правильно. Как вы и ваши эксперты можете это объяснить? Это же, по сути, одно и то же слово!
– Дайте-ка взглянуть. – Покровский перегнулся через плечо Кирилла и наклонился над столом. – Да, действительно. Может быть, здесь случай каких-нибудь чередующихся гласных? Может, есть какие-то грамматические правила, о которых вы не знаете?
– Нет таких правил, – твёрдо заявил Кирилл. – У меня было два семестра исторической грамматики русского языка и пятёрка на экзамене. Я же буквально несколько месяцев назад курсовую писал, изучая ваш экземпляр ломоносовской «Российской грамматики».
– Ах, помню-помню! Замечательная у вас вышла работа!
– Если бы этого не было, я бы и внимания не обратил на эту ошибку. Но тут, извините, слишком свежи знания всех этих правил – очень уж много ночей я провёл за написанием курсовой и подготовкой к экзамену.
– Ну вот вам и бросилась в глаза эта ошибка, Кирилл. А мои эксперты, зная, насколько неграмотно писал Гоголь, просто не придали этому значения. – Букинист пожал плечами. – Да и сам я совсем не знаток старинной грамматики, поэтому тоже не обратил внимания.
– Вот именно, – кивнул Кирилл. – А я обратил и точно вам говорю: слова «целый» и «цела» должны быть написаны одинаково, через ять. Я, конечно, встречал людей, которые расставляют буквы в словах наобум – у них и правда одно и то же слово каждый раз может быть написано по-разному. Но в то, что писатель, автор учебника, «художник слова», – Кирилл выделил интонацией этот эпитет и даже поднял вверх указательный палец, – как написано на памятнике тут неподалёку, мог допустить такую ошибку, я не верю.
– Но тем не менее вам придётся поверить, Кирилл. – Голос Покровского внезапно стал серьёзным. – В этом письме нет ничего необычного. Глупая ошибка – ну с кем не бывает? Теперь, с вашего позволения, я вернусь к своим делам.
Он уже развернулся, чтобы вернуться к своему столику, как вдруг Кирилл снова к нему обратился.
– Погодите! Всеволод Андреевич, тут ещё ошибка!
– Кирилл, я же вам говорю…
– Да погодите вы! Это даже не ошибка, это… я не знаю что. Это вообще бессмыслица какая-то! Смотрите: слово «том» написано без твёрдого знака на конце! Точнее, эта буква называлась ер. Это уж совсем невероятно!
Покровский стоял, суетливо бегая глазами от бумаги к Кириллу и обратно. В конце концов он спросил:
– Скажите, всегда ли в конце слов, заканчивающихся на согласную, ставился твёрдый знак?
– Не всегда. Его иногда опускали при стенографировании для экономии времени и в телеграммах для экономии места. Но чтобы в обычном письме, когда человек никуда не торопится, он пропускал эту букву… Нет, конечно, со временем ер перестали выводить так уж старательно – видимо, понимали, что это атавизм, который рано или поздно выйдет из употребления, но хотя бы какую-то закорючку ставили всегда. Вот, смотрите: Гоголь и сам всегда пишет твёрдый знак в тех местах, где он необходим, пусть и просто обозначает какой-нибудь каракулей. Так что я не понимаю… Подождите, вот ещё!
– Что там?
– Слово «рукопись» написана через i десятеричное – то, которое с точкой, а должно быть через обычную и. А вот ещё: слово «второй» оканчивается на i десятеричное вместо и краткого. Чертовщина какая-то…
Покровский сжал губы, нервно заморгал и спустя некоторое время выдавил из себя:
– И всё же письмо настоящее, Кирилл. Бумага и чернила соответствуют XIX веку, а почерк совершенно точно принадлежит самому Гоголю.
– Но ошибки…
– Ошибки случаются, и случаются даже у великих людей. Ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, а Николай Васильевич сделал очень многое. Кирилл, мне нужно вернуться к своим делам, простите.
Кирилл проводил букиниста взглядом и насупился. Его настроение, которого и так почти не было из-за необходимости делать доклад, теперь улетучилось полностью. Больше всего сейчас ему хотелось бросить всё, поехать в общежитие и завалиться спать – он слишком переутомился со всеми этими письмами, ерами и ятями, так что голова отказывалась соображать. Но бросать работу было нельзя – сбор материалов для доклада нужно было закончить сегодня же. Завтра будут новые занятия, новые задания и новые проблемы. Затягивать с докладом про ненавистного Гоголя совершенно не хотелось.
«Кофе, – мелькнуло в голове у Кирилла. – Мне нужен кофе». С этой мыслью он встал, накинул пальто и бесшумно, чтобы не помешать Покровскому, вышел из салона.
Выйдя на улицу, Кирилл остановился, поднял глаза к небу и глубоко вдохнул сырой ноябрьский воздух. Шумно выдохнув, он почувствовал, как вместе с этим выдохом улетучивается и напряжённость, и даже часть злости на всю эту ситуацию, поэтому даже немного усмехнулся. «Дались мне эти ошибки! Чего я к ним прицепился? Ну накосячил Гоголь в орфографии больше, чем двоечник-второгодник, ну и что? Вон Всеволод Андреевич говорит, он и так грамотностью не блистал, а перед самой смертью, наверное, совсем поехал».
Временно отбросив от себя все мысли о Гоголе, Кирилл привычно сунул нос в воротник пальто и зашагал к ближайшей кофейне. На улице было темно и влажно – сырость, казалось, висела в воздухе, занимая всё пространство и проникая подо все слои одежды, поэтому даже короткая прогулка по любимому Арбату вызывала отвращение. Нет, ему точно нужен был крепкий чёрный кофе – не только для того, чтобы взбодрить усталый мозг, но и чтобы согреться изнутри. На хороший кофе в приличной кофейне денег у Кирилла не было – никогда не было, – поэтому он направился к знакомому окошку, где иногда покупал недорогой кофе навынос – не особо вкусный, но хотя бы горячий и крепкий, а иногда даже немного бодрящий.
Купив напиток, он обхватил картонный стаканчик замёрзшими руками и решил немного пройтись по Арбату – идти в «Мельпомену» с кофе всё равно было нельзя. Это же надо будет освобождать стол от документов, потом обязательно протирать его поверхность влажной тряпкой, потом сухой… Правила Всеволода Андреевича относительно заботы о книгах и чистоты на рабочих местах были строгими, но Кирилл соблюдал их неукоснительно, поэтому и пользовался таким доверием пожилого букиниста.
Неспешно прогуливаясь, он дошёл до Стены Цоя. Легендарный арт-объект, покрытый сотнями, если не тысячами надписей, всегда вызывал интерес Кирилла – он считал его таким же памятником письменности, как, например, древние берестяные грамоты или рунические камни. Поэтому иногда прогуливался здесь, разглядывая послания, оставленные поклонниками группы «Кино» со всей страны. Среди криво нацарапанных маркерами закорючек попадались цитаты из песен, признания в любви к музыканту и даже слова благодарности от людей, которые благодаря его музыке встретили свою судьбу. К тому же здесь частенько можно было послушать уличных исполнителей. Так случилось и на этот раз.
Тот самый волосатый паренёк, которого Кирилл видел раньше, перебрался к Стене Цоя. На предыдущем месте он, видимо, сумел заработать немного денег, так что теперь пел исключительно для души, отчего и вовсе перестал стараться – прибавившаяся к фальши в голосе явная нетрезвость дали Кириллу понять, на что именно парень потратил заработанные деньги.
Музыканта окружала компания молодых людей такого же небрежного вида. Все они были в кожаных куртках и все вместе пьяными хриплыми голосами пели, а если точнее, орали слова песни про анархию. Чуть поодаль стояло несколько случайных прохожих, слушая сомнительного качества музыку. С последними аккордами песни толпа парней взорвалась ликующими воплями и разразилась криками «Даёшь анархию! Анархия – мать порядка!»
Тут от стены близлежащего дома отделилась ссутулившаяся фигура мужчины весьма помятого вида в старом пальто и смешной вязаной шапочке и направилась к нетрезвой компании.
– Что ж хорошего в этой вашей анархии, молодые люди? – обратился он к ним. – Все ваши мыслители от анархизма – если вы, конечно же, читали их сочинения, – все эти Прудоны, Кропоткины и Бакунины, они же всего лишь теоретики. – Парни уставились на него пустыми глазами. – Их утопическую анархию невозможно претворить в жизнь – это нежизнеспособная система! И история это показала – никто, нигде и никогда не смог построить долгоиграющее анархическое общество. А уж знаменитое прудоновское высказывание, которое вы тут выкрикиваете и которое у тебя, Сеня, на куртке нашито, – это вообще глупость несусветная! Анархия есть хаос, а от хаоса не может родиться порядок.
– Сан Саныч, – прошепелявил один из парней, выступая вперёд, – хорош филосохствовать! Давай лучше выпьем?
– Ох, ребята… – Взгляд мужика заметался. – Вы же знаете, мне нельзя! Ну, разве что немного.
Тут же раздались ободряющие возгласы и звуки похлопывания по плечу, из чьей-то куртки появилась початая бутылка водки, и Кирилл поспешил покинуть место – подобные мероприятия, как и вся эта компания, казались ему омерзительными.
«Но в чём-то этот мужик прав, конечно, – думал он по дороге к салону. – Как хаос анархии может превратиться в порядок? Хаос – это по определению беспорядок, и упорядочить его невозможно…»
Тут Кирилл встал как вкопанный. Бумажный стаканчик с недопитым ещё кофе выпал у него из рук.
«Упорядочить? А в каком, собственно, порядке появляются эти слова с ошибками в письме? Что там было? “Цела”, “том”, “рукопись”, “второй”? Нет, это я их в таком порядке обнаружил. А что если… Нет, этого не может быть! Но надо проверить». Он сорвался с места и торопливо зашагал к «Мельпомене».
Придя в салон, Кирилл на ходу снял пальто и тут же направился к своему креслу. Ещё не успев полностью опуститься в него, он схватил письмо и начал его перечитывать. «Не может быть! – пронеслось у Кирилла в голове, а брови сами поползли наверх. – “Второй том, рукопись цела”. Неужели… Нет, этого не может быть!»
Всё ещё не веря своим глазам, он негромко крикнул:
– Всеволод Андреевич! Подойдите, пожалуйста!
Раздались шаги, и вскоре к Кириллу подошёл Покровский.
– Что случилось, Кирилл? Признаюсь, обычно вы работаете более самостоятельно.
– Я… – замялся студент. – Я прошу прощения, что снова отвлекаю вас, но… – Он сделал глубокий вдох и выпалил: – Я не верю, что Гоголь мог допустить столько ошибок в одном коротком письме!
– Вы нашли ещё?
– Смотрите, Всеволод Андреевич. Слова с ошибками складываются в слова: «второй том, рукопись цела».
Букинист сначала нахмурился, потом удивлённо поднял брови, затем перевёл глаза с письма на Кирилла и обратно. Тот продолжил:
– А что, если… ну, в порядке бреда, – проговорил студент, откинувшись в кресле и закрыв глаза. – Что, если эти ошибки не случайны? Если Гоголь допустил их умышленно?
– Что… что вы имеете в виду?
– Очень странный набор слов получается, не находите? «Второй том» и «рукопись цела» – вы не думаете, что это шифр?
– Шифр? – ахнул Покровский. – Мог ли такой человек, как Гоголь, играть в шарады? – Букинист заметно нервничал, но в его в его глазах уже показался огонёк энтузиазма.
– Вы сказали, что Шевырёв был профессором и академиком – он бы эти ошибки точно заметил. Что, если Гоголь таким способом хотел передать ему скрытое послание?
Покровский задумался и внезапно воскликнул:
– Кирилл, давайте поищем ещё ошибки! – Всеволод Андреевич, казалось, совсем забыл о своей шахматной партии. – Чего не поищешь, того и не сыщешь.
«“Давайте поищем!” – мысленно проворчал Кирилл. – Как будто вы их будете искать. Как будто нашли бы вы их без меня».
Кирилл начал медленно читать письмо вслух, выписывая в блокнот некоторые слова:
– «Работа моя сдвинулась. Отец наш небесный наконец ниспослал мне вдохновенье. “По вере вашей да будет вам”, – говорит апостол Матфей. А я молюсь целый день напролёт, да и за перо не сажусь без молитвы. Душа моя требует выплеснуть всё на бумагу, но чувствую, что времени у меня мало, – болезнь может сжечь меня дотла в любой момент. Уже второй раз за этот год посещает меня чувство, что смерть моя где-то на пороге. Но я печалюсь не о том. Грустно мне, что рукопись моя останется не окончена, а как бы мне хотелось, чтобы она была цела! Я едва успею написать вторую книгу, но уж никак не третью. Ты знаешь, друг, что разум велел мне написать три книги, – через это хочу сохранить память о себе в вечности, как свеча, растаяв, оставляет след на листе бумаги. Благодарен Семёну, что со мной в эти последние дни. Твой весь, Н.Г.»
– Ух, – выдохнул Кирилл и откинулся на спинку кресла.
– Что получилось? – нетерпеливо спросил Покровский, заглядывая молодому человеку через плечо.
– Это… поразительно, – проговорил Кирилл. – Вот, послушайте: «Отец Матфей требует сжечь второй том. Рукопись цела. Велел сохранить Семёну».
Повисло напряжённое молчание. Сердце Кирилла колотилось так, что его стук барабанной дробью отдавался в висках, – он не верил тому, что только что обнаружил. Это же надо – след потерянного второго тома «Мёртвых душ»! Указание на то, что рукопись уцелела! Может ли это быть правдой?
– Кирилл, – дрожащим голосом прошептал Покровский, – мы с вами случайно сделали удивительное открытие!
«Ну да, “мы”, – подумал Кирилл. – Снова “мы”. Небось и все лавры себе заберёт».
– Я не могу в это поверить! – продолжил букинист, с трудом подбирая слова от волнения. – Сам Гоголь сообщает о том, что рукопись цела! Да ещё и с помощью шифра! Как интригующе! Вы представляете, какую ценность может иметь такой экспонат для книжного коллекционера?



