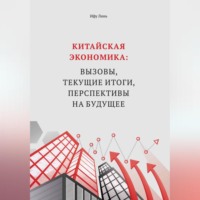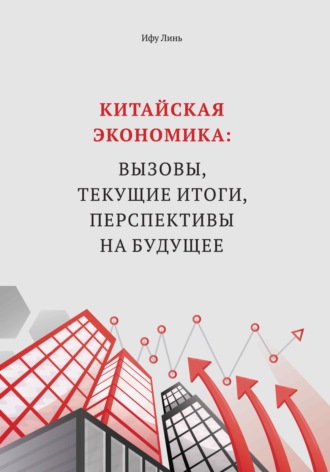
Полная версия
Китайская экономика: вызовы, текущие итоги, перспективы на будущее
Империалистическая экзаменационная система, основанная на конфуцианстве, является институциональной инновацией. В прошлом, когда информационные технологии управления отставали, это было хорошо. Однако для математических исследований и управленческих экспериментов, ставших ключевыми для научной революции, такая институциональная схема была непригодна.
После научно-промышленной революции, проведённой Западом, Китай быстро превратился из наиболее развитой страны в наименее развитую. Одна из моих любимых цитат о сравнении китайской и западной экономик и обществ принадлежит господину Карло М. Чиполле в работе «Европейское общество и экономика до промышленной революции 1000 – 1700 гг.» (Before the Industrial Revolution: European Society and Economy 1000 – 1700). Согласно последнему предложению книги, в период с 1000 по 1700 год н. э. западный мир был в основном аграрным и находился в состоянии «тёмных веков». В этот период Запад был беднее и более отсталым, чем Китай. Однако начиная с XVIII века ситуация изменилась на противоположную. По мере быстрого роста экономической, военной и политической мощи Запада Китай, как и другие развивающиеся страны мира, был подавлен англичанами и другими западными державами и превратился в полуколониальное, полуфеодальное общество. Это и стало результатом того, что в Китае не произошла промышленная революция.
Почему Китай расцвёл после 1978 года
Как возродить Китай? Над этим вопросом упорно бьётся интеллектуальная элита современного Китая. После Опиумной войны китайская интеллигенция испробовала различные методы, включая вестернизацию, внедрение технологий, наращивание военной мощи, свержение монархии путём революции, начало нового демократического и научного культурного движения и построение социалистического государства. Однако до реформ 1978 года Китай оставался бедной и отсталой страной. Почему же Китай так быстро развивался после 1978 года? В течение 38 лет после реформы и открытости Китай поддерживал среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 9,6%, а темпы роста торговли – 14,8%. Сохранение таких высоких темпов роста в течение столь длительного периода времени – это чудо, невиданное в истории человеческой экономики. В результате быстрого роста Китай в 2009 году обогнал Японию и стал второй по величине экономикой мира, а в 2010 году обогнал Германию и стал крупнейшим мировым экспортёром, а также получил звание «мировой фабрики».
После промышленной революции Великобритания стала мировой фабрикой. Затем настала очередь США, Германии, Японии, а теперь и Китая: в 2013 году Китай обогнал США и стал крупнейшей торговой державой мира; в 2014 году Китай стал крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности. Почему последние 40 лет были столь преобразующими? Если Джозеф Нидэм сейчас переосмыслит вопросы, связанные с перспективами Китая, то, возможно, родится новая «загадка Джозефа Нидэма».
Почему Китай смог так быстро развиваться после 1978 года? Мой ответ очень прост: быстрый рост Китая после 1978 года был обусловлен тем, что Китай был «поздней страной». Экономическое развитие означает устойчивый рост ВВП на душу населения и доходов на душу населения, который зависит от устойчивого роста производительности труда. Как этого можно достичь? С точки зрения новой структурной экономики, необходимы устойчивые технологические инновации в существующих отраслях, появление новых отраслей с высокой добавленной стоимостью и перераспределение всех трудовых ресурсов из отраслей с низкой добавленной стоимостью в отрасли с высокой добавленной стоимостью. Быстрые технологические инновации и модернизация промышленности стали возможны только после промышленной революции.
Что касается передовых стран с высоким уровнем доходов, то их технологии и промышленность занимают передовые позиции в мире со времён промышленной революции. Что означает технологическая инновация для развитых стран? Это означает технологическое изобретение. Что такое модернизация промышленности? Это также изобретение новых отраслей промышленности. Изобретение требует значительных капиталовложений и сопряжено с большими рисками. Эмпирические данные показывают, что с середины XIX века среднегодовые темпы роста ВВП стран с высоким уровнем дохода, включая Великобританию, страны Западной Европы и Северной Америки, составляли около 3%.
Развивающиеся страны, желающие увеличить свои доходы, также должны повышать производительность труда. Помимо изобретения новых отраслей и технологий, развивающиеся страны могут заимствовать у стран с высоким уровнем дохода зрелые технологии, которые лучше тех, что они используют в настоящее время, или войти в зрелые отрасли с более высокой добавленной стоимостью, чем в их нынешних отраслях. Такие технологии и промышленные образцы значительно снижают затраты и риски на инновации и модернизацию промышленности. Если развивающиеся страны смогут в полной мере использовать эти преимущества, они смогут развиваться быстрее, чем уже развитые страны.
После Второй мировой войны в мире было всего 13 стран, которые смогли преодолеть своё технологическое и промышленное отставание от развитых стран и продолжали расти в среднем на 7% и более в год в течение более чем 25 лет. Китай входит в число этих 13 стран с 1978 года. Таким образом, исходя из понимания сути промышленной революции, ответ на второй вопрос достаточно прост. Разрыв в доходах между развивающимися и высокодоходными странами подразумевает технологический и промышленный разрыв. Если развивающиеся страны смогут в полной мере использовать возникающие в результате такого неравенства преимущества в области технологических инноваций и модернизации промышленности, то они смогут добиться быстрого роста.
Почему развитие Китая до 1978 года шло медленно
Преимущество «опоздавших» существовало в течение столетия до 1978 года. Этот разрыв сохранялся и рос со времён британской промышленной революции. В начале XVIII века на долю Китая по-прежнему приходилась треть мирового ВВП. Однако к 1949 году эта доля снизилась до 4,2%, что означало увеличение разрыва между Китаем и развитыми странами, а к 1978 году она составила всего 4,9%. Преимущество опоздавшего должно было существовать всегда, но почему Китай не воспользовался им до 1978 года? Мой ответ тоже прост: потому что Китай добровольно отказался от этого преимущества.
После поражения Китая в Опиумной войне главной темой стало великое возрождение китайской нации: в 1949 году была создана Китайская Народная Республика, и Китай стал политически независимым. Стремление государства в то время заключалось в том, чтобы как можно быстрее догнать развитые страны. Стратегия китайского правительства того времени заключалась в том, чтобы «превзойти Великобританию и догнать США». Такая ориентация на развитие означала, что Китай сразу же стремился создать такие же передовые, капиталоёмкие, крупномасштабные производства, какие были в то время в Великобритании и США. Однако эти передовые отрасли были защищены патентами, и за их внедрение приходилось платить большие роялти. Более того, поскольку эти отрасли связаны с национальной обороной и безопасностью, развитые страны не желают платить патентные отчисления, даже если бы захотели. Поэтому, если Китай хочет развивать эти отрасли, ему придётся изобретать их самостоятельно, тем самым потеряв преимущество опоздавших.
В то время Китай был крайне бедной сельскохозяйственной страной, не имевшей сравнительных преимуществ в капиталоёмких отраслях. В бедном капиталом Китае инвестиционные затраты были гораздо выше, чем в богатых капиталом развитых странах. Предприятия таких отраслей не могут самопроизвольно развиваться на рыночных принципах в развивающихся странах, поскольку они не могут сами развиваться в условиях открытого конкурентного рынка. Для создания таких отраслей требуется прямое привлечение и распределение ресурсов, а также всевозможная защита и помощь путём вмешательства и искажения рынка. Однако искажения, связанные с государственным вмешательством в рынок, неизбежно приводят к неправильному распределению ресурсов, и такой подход к развитию привёл к тому, что в 1960-х годах в Китае были проведены испытания атомных бомб, а в 1970-х – запущены спутники, однако общая эффективность развития Китая оставалась низкой. С 1949 по 1978 год доля Китая в мировой экономике выросла всего с 4,2 до 4,9%.
В 1978 году Китай изменил стратегию своего развития, перейдя на развитие трудоёмких отраслей в соответствии со своими сравнительными преимуществами. Экономика начала быстро развиваться после того, как государство воспользовалось ситуацией для создания конкурентных преимуществ, завоевания внутренних и внешних рынков, накопления капитала и изменения сравнительных преимуществ с целью использования отстающих в модернизации отраслей и технологий.
Почему другие страны с переходной экономикой переживают экономический коллапс, стагнацию и постоянные кризисы?
Однако такой анализ создаёт ситуацию, в которой приходится делать выбор. После Второй мировой войны все страны социалистического лагеря следовали сталинской модели капиталоёмкого развития. Страны, не входившие в социалистический лагерь, например, страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки, также мечтали о том, чтобы при первом поколении политических лидеров вырваться из колониальных и полуколониальных стран и превратить свои страны в современные индустриальные государства с высокими доходами. Поэтому в 1950 – 1960-е годы страны всех социальных типов прибегали к прямой государственной мобилизации и распределению ресурсов с целью развития крупной капиталоёмкой промышленности на базе аграрной экономики. Но их неспособность использовать преимущества «опоздавших» и слабое государственное вмешательство привели к увеличению разрыва с развитыми странами.
В 1980 – 1990-е годы, когда Китай начал переход от плановой экономики к рыночной, другие развивающиеся страны также находились в процессе перехода к рыночной экономике. Однако этот переход проходил под сильным влиянием господствовавших в Великобритании тэтчеризма, американского рейганизма и неолиберализма. В то время преобладало мнение, что низкие экономические показатели развивающихся стран объясняются чрезмерным вмешательством государства в их экономику. Развивающиеся страны не имели такой развитой системы рыночной экономики и защищённых прав собственности, как страны с высоким уровнем доходов. Поэтому в то время предлагалось применить радикальную «шоковую терапию» для создания зрелой рыночной экономики и улучшения экономических показателей, способствуя приватизации, либерализации, рыночной и финансовой стабилизации, а также устранения всех видов государственного вмешательства в экономику и создания здоровой рыночной экономики. Многие страны следовали этой стратегии преобразований, но результатом этого стали коллапс, стагнация и кризисы.
Экономические показатели развивающихся стран в 1980 – 1990-е годы были даже хуже, чем в 1960 – 1970-е годы, с более низкими среднегодовыми темпами роста и более частыми кризисами, что позволило некоторым экономистам назвать 1980 – 1990-е годы «потерянными двумя десятилетиями» для развивающихся стран. Почему так произошло? Причина в том, что неолиберализм не смог осознать, что искажающий эффект государственного вмешательства в рынок заключается в защите компаний в капиталоёмких отраслях, которые не могут самостоятельно выжить на открытом конкурентном рынке. Если отменить все защитные субсидии, эти фирмы не смогут выжить и будут вынуждены обанкротиться. Если государство допустит банкротство предприятий, это приведёт к массовой безработице и нестабильной социально-политической ситуации. В таких условиях экономика не сможет развиваться. Кроме того, некоторые передовые капиталоёмкие отрасли тесно связаны с вооружёнными силами и обороной страны, и государство не допустит банкротства этих предприятий, если они будут приватизированы, в целях обеспечения национальной безопасности, как это происходит в России сегодня. Поэтому после приватизации государство будет продолжать защищать и субсидировать эти предприятия. Когда эти предприятия находились в государственной собственности, их руководителями были государственные служащие, которые говорили правительству: «Мы не выживем без защитных субсидий». Но в условиях защитных субсидий государства возрастает коррупционная составляющая.
Когда предприятия приватизируются, у них появляется больше стимулов добиваться от государства защитных субсидий, и чем больше субсидий они получают от государства, тем более законно и естественно они кладут деньги себе в карман. Коррупция, основанная на ренте, стала ещё хуже, а производительность труда ниже, чем до переходного периода. Неолиберализм имел благие намерения, но он привёл к экономическому краху, стагнации и постоянным кризисам.
Как же Китаю удалось сохранить стабильность и добиться быстрого роста в переходный период? В Китае была принята другая стратегия перехода – двухколейный постепенный переход. Китай пошёл по «новому» и «старому» пути, предоставляя субсидии на защиту в переходный период компаниям, которые не могли быть самодостаточными в традиционных капиталоёмких базовых отраслях, и либерализируя доступ к трудоёмким отраслям на основе сравнительных преимуществ. Изначально развитие инфраструктуры в Китае сильно отставало, а развитие инфраструктуры было очень важно для трудоёмких отраслей со сравнительными преимуществами, чтобы получить конкурентное преимущество на международном рынке. Однако одновременное развитие инфраструктуры по всей стране было невозможно. Поэтому в Китае создаются особые экономические зоны (ОЭЗ) и индустриальные парки, где будет развиваться новая инфраструктура. В Китае было много искажений и слабая деловая среда. Поэтому правительство ввело комплексное обслуживание в специальных экономических зонах и индустриальных парках. По данным Всемирного банка,по показателям бизнес-среды Китай занимал одно из последних мест в мире. Однако для компаний, инвестирующих и работающих в ОЭЗ и индустриальных парках, условия ведения бизнеса в Китае являются одними из самых высоких в мировом рейтинге. В условиях двухколейной прогрессивной реформы Китай сохранил стабильность и эффективно использовал своё преимущество позднего инвестора для достижения быстрого экономического роста. Это различие в эффективности преобразований, обусловленное различными стратегиями.
Что я хочу сказать сейчас, так это то, что в 1980 – 1990-е годы основным международным мнением было то, что если мы хотим перейти от плановой экономики к рыночной, то должны прибегнуть к «шоковой терапии», а двухколейная система считалась наихудшим способом преобразований. В ретроспективе то, что считалось лучшим способом, оказалось худшим, а худший способ – лучшим.
Издержки быстрого экономического роста
Китая Ценой постепенного перехода Китая к двухколейной системе стали коррупция и неравенство доходов. Поскольку традиционные капиталоёмкие отрасли требуют государственных субсидий для их защиты, эти субсидии генерируют экономическую ренту, что приводит к коррупции, направленной на получение ренты, и тому, что бедные субсидируют богатых. Например, традиционные отрасли являются капиталоёмкими, и стоимость капитала имеет решающее значение. В начале переходного периода Китай был экономикой, бедной капиталом, так как же правительство субсидировало эти отрасли? Одним из способов финансирования капиталоёмких отраслей было использование крупных банков и фондового рынка для вливания в них дешёвых денег: в 1980-х и 1990-х годах эти компании не только имели доступ к большим объёмам капитала, но и пользовались искусственно заниженными процентными ставками и стоимостью финансирования на фондовом рынке. Первоначально все предприятия были государственными, но в условиях двухколейной системы многие частные фирмы быстро влились в новый сектор. Сегодня многие предприятия являются крупными. Став крупными, они могут получать кредиты в банках, а также привлекать средства на фондовом рынке. Владельцы этих крупных предприятий богаты, а финансируются они за счёт сбережений простых фермеров, семей, малых и средних предприятий (МСП), которые не могут получить кредиты в крупных банках или на фондовом рынке. Они вкладывают свои сбережения в финансовую систему, получают искусственно заниженные банковские процентные ставки и доходность фондового рынка и субсидируют богатых, владеющих этими крупными корпорациями. Бедные субсидируют богатых, что, естественно, усиливает неравенство доходов. В то же время, чтобы получить эти кредиты и листинги, крупные компании подкупают государственных чиновников, которые имеют право решать, кто получит кредиты и листинги, что приводит к широкомасштабной коррупции. Это только один пример, а есть ещё множество других, включая искажающие налогообложение и роялти на ресурсы, монополии в телекоммуникационном, электроэнергетическом и финансовом секторах и получаемые ими монопольные прибыли, а также обусловленное ими рентоориентированное поведение.
Как можно решить эти проблемы?
В 1980 – 1990-е годы, когда капиталоёмкие отрасли утратили свои сравнительные преимущества и предприятия уже не могли самостоятельно генерировать доход, защитные субсидии для компаний были желанным облегчением и прагматичным подходом, необходимым для поддержания экономической стабильности. Однако, поддерживая среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 9,6% на протяжении почти четырёх десятилетий, Китай превратился из страны с низким уровнем дохода в страну со средним уровнем дохода: ВВП на душу населения в 2016 году составил 8100 долларов США, капитал превратился из относительно дефицитного в относительно изобильный, а те отрасли, которые раньше были крупными и капиталоёмкими, теперь стали сравнительным преимуществом Китая, и компании смогли выжить в условиях открытого и конкурентного рынка. При правильном управлении эти предприятия должны иметь возможность получать приемлемую норму прибыли на рынке. Характер защитных субсидий изменился с «оказания помощи в случае необходимости» на «предоставление привилегий». Если раньше государственные субсидии на защиту были необходимостью, то сегодня они являются привилегией. Конечно, для бизнеса привилегии важны. Но для общества это означает политическую и социальную цену. Реформы должны идти в ногу со временем и устранять всевозможные вмешательства в рынок и искажения, унаследованные от двойной системы защиты и субсидирования капиталоёмких предприятий. Третий пленум ЦК КПК 18-го созыва в 2013 году призвал к всестороннему углублению реформ, предложив «настаивать на решающей роли рынка в распределении ресурсов и усилить роль государства». Было принято решение обеспечить решающую роль рынка в распределении ресурсов. Это решение означает, что для Китая настало время устранить все искажения. Если Китай сможет это сделать, то он сможет устранить коренные причины коррупции и неравенства доходов и наконец построить хорошо функционирующую рыночную экономику.
Сохраняется ли в Китае потенциал для быстрого роста?
Есть ли у Китая ещё потенциал для быстрого роста? Согласно предыдущим анализам, это зависит оттого, насколько велик технологический разрыв между Китаем и странами с высоким уровнем доходов. Как измерить технологический разрыв? Я думаю, что лучший способ – это посмотреть на разрыв в ВВП на душу населения. ВВП на душу населения отражает средний уровень технологического развития, поскольку представляет собой среднюю производительность труда в стране. Согласно исторической статистике, опубликованной Ангусом Мэддисоном, в 2008 году ВВП на душу населения в Китае составлял 21% от ВВП на душу населения в США, рассчитанного по паритету покупательной способности.
Такими же темпами росли Япония в 1951 году, Сингапур в 1967 году, Тайвань (Китай) в 1975 году и Корея в 1977 году. Эти четыре восточноазиатские страны входят в число упомянутых ранее 13 стран после Второй мировой войны, в которых среднегодовые темпы роста превышали 7% в течение 25 лет подряд. Учитывая, что ВВП на душу населения в этих четырёх странах Восточной Азии составлял 21% от ВВП США, они воспользовались своим преимуществом «опоздавших», чтобы достичь среднегодовых темпов роста в 8 – 9% в течение 20 лет. С точки зрения преимущества «опоздавших» Китай имеет потенциал для достижения среднегодовых темпов роста в 8% в течение 20-летнего периода, начиная с 2008 года.
В период до 2028 года Китай имеет потенциал для многолетнего среднегодового роста в 8% в год. Однако потенциал – это только возможность. Чтобы превратить эту возможность в реальность, Китаю необходимо углубить внутренние реформы, устранить различные перекосы, унаследованные от двухколейной системы, и обратить внимание на внешнюю среду мировой экономики, которая находится вне контроля Китая. После кризиса субстандартной ипотеки в США в 2008 году мировая экономика замедлилась, и темпы роста, скорее всего, будут оставаться вялыми в течение длительного периода времени. Тем не менее, если Китай будет раскрепощать свой разум, искать истину в фактах, использовать благоприятные внутренние условия и продолжать структурные реформы в сфере предложения, я уверен, что в течение следующего десятилетия Китай будет поддерживать темпы роста на уровне не менее 6%. Что означает темп роста в 6%? В 2016 году доля Китая в мировой экономике составила 18,6% по паритету покупательной способности (ППС) и 14,9% по рыночному обменному курсу. Темпы роста в 6% означают, что на Китай приходится около 1% мирового экономического роста в год. В настоящее время темпы роста мировой экономики составляют около 3%, при этом на Китай ежегодно приходится около 30% мирового экономического роста. В ближайшее десятилетие Китай будет оставаться локомотивом роста мировой экономики.
Таким образом, до XVIII века Китай с его многочисленным населением имел то преимущество, что технологические инновации генерировались на основе опыта крестьян и ремесленников. Когда парадигма технологического прогресса сменилась с накопления опыта на эксперименты, основанные на научных данных, Китай стал быстро отставать. Система имперских экзаменов и конфуцианство способствовали сохранению социально-политической стабильности и сплочённости Китая, но препятствовали смене парадигмы технологического прогресса. В результате тот факт, что Китай отстаёт от Запада, означает, что у него есть преимущество «опоздавшего», чтобы догнать Запад в экономическом плане.
Однако до начала реформ 1978 года Китай, как и большинство других развивающихся стран, не нашёл способа ускорить своё экономическое развитие, используя своё преимущество «опоздавших». Только после 1978 года Китай встал на правильный путь. Однако из- за недостаточной самостоятельности большого числа традиционных капиталоёмких предприятий тяжёлой промышленности переход от плановой экономики к рыночной мог быть осуществлён только путём раскрепощения и реалистичного продвижения двухколейной системы, позволяющей сохранить экономическую и социальную стабильность и одновременно обеспечить мощное экономическое развитие. Только освободив сознание и прагматично продвигая двухколейную систему, Китай сможет обеспечить мощное экономическое развитие и переход от плановой экономики к рыночной. Я считаю, что если Китай и дальше будет придерживаться такой открытой и прагматичной позиции, то в будущем он, безусловно, сможет поддерживать относительно высокие темпы экономического развития, догнать развитые страны и реализовать мечту о великом возрождении китайской нации.
Опыт развития Китая заслуживает изучения другими развивающимися странами. Все развивающиеся страны стремятся стать странами с высоким уровнем дохода. Когда я работал во Всемирном банке, я объездил весь мир и обнаружил, что лидеры развивающихся стран в целом разделяют те же амбиции, что и лидеры Китая, стремясь модернизировать и индустриализировать свои страны, но они идут по неверному пути. Они всегда берут за основу страны с высоким уровнем дохода и шаг за шагом подражают теориям, концепциям и практике стран с высоким уровнем дохода, и, несмотря на все усилия, результаты оказываются неудовлетворительными. Поэтому я предложил новый тип структурной экономики. Согласно этой разновидности структурной экономики, развивающиеся страны должны исходить из того, что они имеют, то есть из имеющихся у них в каждый момент времени факторных ресурсов, и из того, что они могут делать хорошо, то есть из своих сравнительных преимуществ, и помогать своим предприятиям делать хорошо и становиться сильнее в условиях рыночной экономики под активным руководством правительства. Страны с низким уровнем дохода, богатые трудовыми и природными ресурсами, но бедные капиталом, должны развивать отрасли, соответствующие их сравнительным преимуществам. Эти страны должны воспользоваться ситуацией под руководством государства, чтобы превратить потенциальные сравнительные преимущества своих отраслей в национальные конкурентные преимущества. Проводя экономические преобразования и исправляя различные перекосы, вызванные неправильной политикой прошлого, правительства должны прагматичными методами поддерживать политическую и социальную стабильность. Если развивающимся странам удастся это сделать, то они смогут эффективно использовать своё преимущество «опоздавших» и поддерживать высокие темпы экономического роста в среднем на уровне 8% или даже 10% в год в течение нескольких десятилетий, что позволит им превратиться из стран с низким уровнем дохода в страны со средним или даже высоким уровнем дохода.