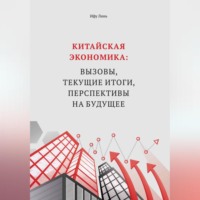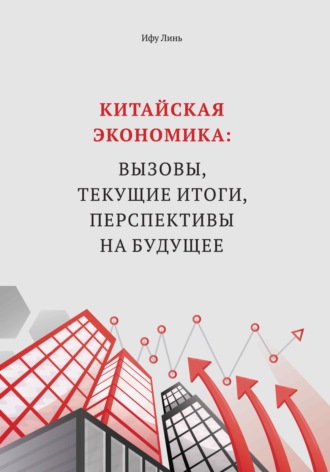
Полная версия
Китайская экономика: вызовы, текущие итоги, перспективы на будущее
Анализируемая нами советская социалистическая политэкономия в то время во многом соответствовала доминирующей мировой экономической теории того времени: кейнсианство стало доминирующей макроэкономической теорией на Западе после Великой депрессии 1930-х годов, подчёркивая несостоятельность рынка и государственное вмешательство в ответ на это и утверждая, что для успешного экономического развития любой страны необходимо опираться на государство, чтобы преодолеть ограничения рынка в распределении ресурсов для успешного экономического развития любой страны. В то же время после Второй мировой войны многие развивающиеся страны вышли из колониального и полуколониального статуса и начали модернизацию своих государств под руководством лидеров первого поколения. В ответ на эту потребность в западной экономической науке возникла новая дисциплина – экономика развития.
Первое поколение теории экономики развития, известное сегодня как структурализм, утверждало, что для того, чтобы развивающиеся страны стали богатыми и сильными и догнали развитые страны, им необходимо развивать современную крупномасштабную промышленность наравне с развитыми странами. Это объясняется тем, что для «обогащения народа» и получения такого же уровня доходов, как в развитых странах, им необходим такой же уровень производительности труда, как в развитых странах; для того чтобы иметь такой же уровень производительности труда, как в развитых странах, им необходим такой же уровень передовых технологий и промышленности, как в развитых странах; а для того чтобы «сделать свои страны сильными», им необходима передовая военная техника, произведённая на основе передовых технологий и промышленности. Однако на самом деле вся промышленность развивающихся стран в то время базировалась на традиционном сельском хозяйстве и природных ресурсах. Поскольку производительность труда была очень низкой, то и уровень доходов был очень низким, а страна не обладала национальной мощью. Поэтому структурализм утверждает, что развивающиеся страны должны стремиться к развитию современной и передовой промышленности, что, собственно, соответствует цели нашей страны – «догнать Великобританию и перегнать США» в 1950 – 1960-е годы. Однако в развивающихся странах эти современные отрасли не могут быть созданы рынком, поэтому они рассматриваются как провалы рынка, и развивающиеся страны должны напрямую мобилизовать и распределять ресурсы для развития современных отраслей путём импортозамещения.
Такой тип развития позволяет развивающейся стране быстро построить современную промышленную систему на базе бедности. В частности, в 1960-х годах Китай смог испытать атомную бомбу, а в 1970-х – запустить в небо спутники, что, безусловно, является очень выдающимся достижением. Однако общие показатели экономического развития в развивающихся странах, придерживающихся такого подхода к развитию, оказались довольно низкими. Если посмотреть на ситуацию внутри страны, то уровень жизни населения долгое время оставался невысоким. К 1978 году, когда начался процесс реформ и открытости, уровень индустриальной структуры нашей страны казался очень высоким и передовым, но уровень дохода на душу населения был очень низким. После 30 лет упорного труда, прошедших с момента образования Нового Китая, уровень дохода на душу населения в нашей стране не достигал и трети от уровня беднейших африканских стран мира.
Другие социалистические страны находятся в той же ситуации, что и мы. Они могут быть передовыми с точки зрения индустриальных систем, но сильно отстают по уровню жизни. Другие несоциалистические развивающиеся страны, в том числе страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки, под влиянием господствующей в то время теоретической идеологии также преуспели в индустриализации, но пережили экономическую стагнацию и различные кризисы, не сумев поднять уровень жизни населения.
В конце 1978 года Китай стал первой социалистической страной, перешедшей от плановой экономической системы к рыночной экономике. Другие социалистические страны, включая Советский Союз и страны Восточной Европы, начали процесс перехода в 1980 – 1990-х годах, в то время как другие несоциалистические развивающиеся страны Латинской Америки, Южной Азии и Африки также перешли от государственной импортозамещающей экономики к открытой рыночной экономике.
Доминирующей международной идеологией в 1980-е годы был неолиберализм, утверждавший, что низкий уровень экономического развития социалистических и других развивающихся стран обусловлен различными искажениями, вызванными чрезмерным вмешательством государства в рынок, и что низкий уровень экономического развития связан с неэффективностью государства. Эмпирически эффективность государственной экономической системы не столь эффективна, как эффективность рыночной экономической системы в развитых странах. Поэтому целью преобразований стал переход к рыночной экономической системе. В то время преобладало мнение, что переход к рыночной экономике требует создания необходимых институциональных механизмов рыночной экономики. Каковы же необходимые институциональные механизмы для рыночной экономики? Преимущество рынков заключается в том, что они позволяют эффективно распределять ресурсы. Как можно добиться эффективного распределения ресурсов?
Цены должны устанавливаться, а до переходного периода все виды цен в основном устанавливались государством, поэтому первая рекомендация заключается в том, чтобы страны вывели цены на рынок и затем позволили спросу и предложению на самом рынке определять окончательную цену, а также позволить цене определять распределение ресурсов. Более высокие цены на тот или иной товар означают, что спрос на него высок, и ресурсы направляются на увеличение производства для удовлетворения спроса. И наоборот, если цена на товар падает, то ресурсов на этот товар выделяется меньше. Эта логика очень понятна.
Цены не только устанавливались на рынке, но в то время в Китае и других странах с переходной экономикой и развивающихся странах существовало большое количество государственных предприятий, и даже если цены устанавливались на рынке, если предприятие было государственным, то государство должно было субсидировать его, а предприятие перечислять государству любую прибыль, так что цены не могли выполнять функцию распределения ресурсов. В этом случае, даже если цены на различные ресурсы и элементы определяются на рынке, по сути, в рыночной экономике, если цена на элемент повышается, компании должны использовать его экономно, чтобы повысить производительность, но в случае государственных предприятий, если цена на элемент повышается, это повышение не является явной проблемой, поскольку государство всё равно его субсидирует. Даже если цены на факторы растут, они не прибегают к мелким мерам по снижению издержек. В то же время, если цены на производимую продукцию растут, то, по логике рыночной экономики, они должны стремиться производить больше и получать больше прибыли. Однако поскольку прибыль государственных предприятий должна перечисляться государству, то при росте цен на продукцию государственные предприятия не стремятся к увеличению производства. Поэтому в то время существовало мнение, что все государственные предприятия должны быть приватизированы, чтобы рыночные цены играли решающую роль в распределении ресурсов, и эта логика была очень ясной и понятной.
Ещё одним условием того, чтобы цены играли решающую роль в распределении ресурсов, является их стабильность. Если инфляция высока, то поведение потребителей искажается. Если цена на тот или иной товар постоянно растёт, потребители будут спешить купить больше этого товара, когда цена на него низкая, это приведёт к значительному увеличению спроса. С точки зрения производителей, когда компании видят, что цены продолжают расти, они откладывают продажи и ждут три-шесть месяцев, прежде чем возобновить продажи, и цены растут дальше. В результате получается замкнутый круг: высокие цены приводят к значительному увеличению спроса и значительному сокращению предложения. Таким образом, стабильные цены являются необходимым условием эффективного распределения ресурсов на рынке.
Как достигается ценовая стабильность? Необходимым условием является сбалансированность государственного бюджета. Если государственный бюджет не сбалансирован и существует дефицит, то этот дефицит в конечном итоге будет монетизирован. Увеличение количества денег приводит к инфляции, а инфляция – к искажениям.
Поэтому в 1980-х годах появился так называемый Вашингтонский консенсус, основанный на неолиберальном мышлении того времени. В соответствии с ним для успешного перехода в этих странах необходимо обеспечить маркетизацию, приватизацию и макростабилизацию, причём эти три реформы должны проводиться одновременно, чтобы быть эффективными. Если рынки будут либерализованы, а права собственности не будут реформированы, то результаты не будут положительными. Даже если рынки будут либерализованы, а права собственности реформированы, результаты будут неудовлетворительными, если будет наблюдаться макроэкономическая нестабильность.
Опыт трансформации моей страны и размышления о нём
Реформы, начатые нами в 1978 году, не соответствовали сложившейся в то время международной точке зрения. В процессе перехода к рынку мы проводили двухколейные поэтапные реформы, руководствуясь принципами либерализации и прагматизма: предоставляли защитные субсидии на переходный период государственным предприятиям, которые ранее были приоритетными для развития, либерализовали доступ в некоторые трудоёмкие отрасли, подавляемые в прошлом, и активно направляли их развитие в соответствии с обстоятельствами. Поскольку инфраструктура изначально была очень слабой, а условия ведения бизнеса – очень плохими, были созданы особые экономические зоны и зоны переработки и экспорта для улучшения инфраструктуры, предоставления услуг по принципу «одного окна» и создания благоприятных местных условий для преодоления недостатков в инфраструктуре и условиях ведения бизнеса.
В 1980 – 1990-е годы в мире сложилось мнение, что переход от плановой экономики к рыночной может быть успешным только в том случае, если институциональные механизмы, необходимые для рыночной экономики, будут внедрены в одночасье с помощью «шоковой терапии». Существовал также международный консенсус о том, что постепенный переход на двухколейную систему, подобную той, которая была реализована в Китае, когда ресурсы распределяются и рынком, и государством, является наихудшим из возможных институциональных механизмов и что он приведёт к экономике ещё менее эффективной, чем первоначальная плановая экономика, и с ещё большим количеством проблем. Почему это худший институциональный механизм? Из-за одновременного существования плана и рынка низкая цена государственного плана и высокая цена рынка создают возможности для арбитража, порождают коррупцию и ведут к увеличению разрыва в доходах.
В Китае такое явление возникло после переходного периода, и одна из наиболее распространённых сделок в 1980-е годы получила название демпинга. До 1978 года таких сделок не было, но после постепенного внедрения двухколейных реформ в 1978 году появились демпинг запланированных государством товаров и сделки, основанные на получении распределения между запланированными и рыночными ценами. Более того, чтобы получить эти дешёвые плановые товары, демпингующие вынуждены использовать все свои связи для извлечения ренты, что приводит к коррупции и создаёт проблемы распределения доходов.
Именно из-за этих практических проблем в Китае в 80-е годы прошлого века началось противодействие постепенному реформированию двухколейной системы, что и стало причиной появления «теории краха Китая», когда экономическое развитие страны замедлилось. Однако за последние 40 лет наша экономика не только быстро росла, но и сделала Китай единственной страной в мире, не испытавшей за это время экономического кризиса. В большинстве других социалистических и развивающихся стран изменения проводились в соответствии с господствующим Вашингтонским консенсусом, что привело к экономическому краху, стагнации и кризисам. Кроме того, проблемы коррупции и разрыва между богатыми и бедными, проявляющиеся в нашей стране, существуют и в других странах, причём зачастую более серьёзные, чем в нашей стране. Всемирный банк и Европейский банк развития провели ряд эмпирических исследований в Советском Союзе, Восточной Европе и Латинской Америке, которые подтверждают эту точку зрения. Они обнаружили, что после маркетизации, приватизации и макростабилизации средние темпы роста в этих странах были ниже, чем в 1960 – 1970-е годы до начала переходного периода, кризисы случались чаще, а такие проблемы, как коррупция и растущее неравенство доходов, были более серьёзными, чем в Китае.
Почему доминирующая экономическая теория не смогла преобразовать развивающиеся страны?
У китайского делового сообщества есть вопрос, над которым стоит задуматься. Теории призваны понять и преобразовать мир, но почему так получается, что основные экономические теории так успешно понимают проблемы развивающихся стран и стран с переходной экономикой, но развивающиеся страны неизменно не могут сформулировать политику развития и преобразования в соответствии с этими теориями? Я думаю, что основная причина заключается в том, что эти теории исходят из развитых стран и используют развитые страны в качестве системы отсчёта, игнорируя тот факт, что различия между развивающимися и развитыми странами являются эндогенным результатом различных условий.
Например, если в развивающихся странах отрасли, как правило, трудо- или ресурсоёмкие и имеют низкую производительность труда, то в развитых странах сосредоточены капиталоёмкие, технологически развитые и высокопроизводительные отрасли. Однако такая дифференциация в структуре промышленности определяется эндогенными факторами. Развитые страны имеют капиталоёмкие и технологически передовые отрасли, поскольку после двух-трёх веков накопления капитала в результате промышленной революции они стали относительно богатыми капиталом и получили сравнительные преимущества в таких отраслях. Каковы общие характеристики развивающихся стран? Они не имеют сравнительных преимуществ в капиталоёмких отраслях из-за крайнего дефицита капитала.
Если страна развивает отрасли, в которых она не имеет сравнительных преимуществ, например, трудоёмкие производства в развитых странах и капиталоёмкие – в развивающихся, то эти отрасли неизбежно не способны к саморазвитию на открытых конкурентных рынках и не могут выжить без защиты и субсидий. Однако основная теория развития, возникшая после Второй мировой войны, не признавала, что промышленная структура отдельных стран определяется эндогенными факторами, и рассматривала в качестве проблемы только низкую производительность традиционных отраслей в развивающихся странах, а также способствовала развитию передовых капиталоёмких отраслей, не меняя экзогенных причин эндогенных следствий, что приводило к провалам и неизбежно заканчивалось неудачами.
Первоначально неолиберальная теория очень убедительно доказывала, что государственное вмешательство и искажения неизбежны в переходный период. Однако следование этим идеям в переходный период привело к замедлению темпов экономического роста по сравнению с первоначальными представлениями. Почему же политика, которая следовала таким аргументам, на самом деле привела к снижению темпов экономического развития и увеличению частоты кризисов? Основная причина заключается в том, что неолиберальная теория игнорирует тот факт, что различные искажения, предшествовавшие переходному периоду, также были эндогенными. Почему эти перекосы, интервенции и защитные субсидии существуют? Причина в том, что отрасли, которым следовало бы отдать предпочтение до начала переходного периода, настолько капиталоёмки, что предприятия этих отраслей не могут самостоятельно существовать на открытом и конкурентном рынке и не могут выжить без защитных субсидий. Согласно неолиберальным представлениям, для создания эффективных рынков, аналогичных рынкам развитых стран, необходимо одновременно проводить маркетизацию, приватизацию и макростабилизацию, чтобы сбалансировать государственный бюджет, что требует немедленного отказа от защитных субсидий всех видов. В результате отмены субсидий отрасли, не отвечающие сравнительным преимуществам, не смогут выжить, что приведёт к частым банкротствам предприятий, массовой безработице, социальной нестабильности, политической нестабильности и экономическому коллапсу. В то же время многие капиталоёмкие отрасли связаны с национальной обороной и безопасностью, и без защиты и субсидий они не смогут выжить, а национальная оборона и безопасность не будут гарантированы. Так было и на Украине. Когда-то она могла производить ядерные бомбы, авианосцы и самые большие в мире самолёты, но когда в 1990-е годы в стране произошла трансформация, она не получила субсидий для обеспечения финансового равновесия и была вынуждена отказаться от всех этих отраслей.
Конечно, большинство стран не будут настолько наивны, чтобы отказаться от оборонной промышленности и промышленности, связанной с обеспечением безопасности, поэтому даже если некогда крупные государственные оборонные компании будут приватизированы, государство будет продолжать предоставлять им защитные субсидии. При ближайшем рассмотрении оказывается, что государство вынуждено субсидировать эти компании, поскольку они необходимы для обеспечения национальной обороны и безопасности, то есть несут стратегическую политическую нагрузку. В 1990-е годы я общался со многими экономистами, как отечественными, так и зарубежными, и в научных кругах преобладало мнение, что эти компании субсидируются потому, что они находятся в государственной собственности. Со своей стороны, я считаю, что эти компании несут стратегическое бремя обороны и безопасности, и до тех пор, пока это стратегическое бремя существует, они должны субсидироваться, независимо оттого, находятся ли они в государственной или частной собственности. Кроме того, если говорить о механизмах стимулирования, то на государственных предприятиях директора и руководители заводов будут говорить, что без субсидий предприятию не выжить, и хотя после получения субсидий невозможно не набить свои карманы, но набивание карманов – это хищение, которое карается тюремным заключением или смертной казнью, если поймают. Единственный выход – быть хитрее и воровать деньги по мелкому. Однако при приватизации предприятия его владельцы не дотируют государство, но по той же причине добиваются от него защитных субсидий, в которых оно не может отказать. Но в чём разница с государственными предприятиями? Чем больше владельцы частных компаний получают субсидий от государства, тем больше обогащаются их карманы. В результате возрастает стимул к поиску ренты, а что бы вы сказали чиновникам при поиске ренты? «Деньги, которые вы мне даёте, всё равно не ваши, а деньги страны, так почему бы вам не дать мне больше? Давайте откроем счёт в Швейцарии или Панаме и разделим их между собой».
В 1990-е годы эти мои взгляды носили чисто теоретический характер. Сегодня существует масса информации, подтверждающей эту точку зрения. Помимо эмпирических исследований Всемирного банка, Европейского банка развития и ряда учёных из СССР, Восточной Европы и Латинской Америки, «панамские документы», широко обсуждавшиеся в международных СМИ пару лет назад, содержат большое количество документов, свидетельствующих о том, что феномен приватизации корпораций был очень распространён в период экономических преобразований в СССР, Восточной Европе и развивающихся странах.
Игнорируя эндогенную природу таких искажений, мейнстримные теории изменений, несмотря на строгую логику своих теоретических моделей и основанные на них чёткие рекомендации, приводят к тому, что результаты изменений, следующих за этими рекомендациями, оказываются хуже, чем это возможно. Постепенная трансформация двухколейной системы, осуществлённая в Китае, действительно привела к «предательству», поиску ренты, проблемам коррупции и ухудшению распределения доходов, как и предсказывала теория мейнстрима. Однако экономика развивалась быстрыми темпами, поскольку сравнительные преимущества рухнули, стабильность сохранялась, так как фирмы, не имеющие собственных мощностей, продолжали получать защитные субсидии в переходный период, доступ к трудоёмким отраслям был либерализован, и государство активно использовало эту ситуацию. Такое бурное развитие привело к быстрому накоплению капитала, и отрасли, изначально выступавшие против сравнительных преимуществ, постепенно стали им соответствовать, а характер защитных субсидий изменился с «помощи в трудные времена» на «предоставление привилегий». «Предоставление привилегий» не только не способствует поддержанию стабильности, но и ведёт к коррупции с целью получения ренты, неравномерному распределению доходов и другим социально-политическим проблемам. Поэтому на Третьем пленуме ЦК КПК 18-го созыва в 2013 году было предложено всесторонне углубить реформы, чтобы позволить рынку играть решающую роль в распределении ресурсов, и в качестве обязательного условия для этого отменить защитные меры, унаследованные от двухколейного периода.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Опубликовано вгазете«China Youth Daily» 10 июля 2020 г.
2
Речь идёт о вынесении за пределы теоретической модели оставшихся бесконечных атрибутов объекта исследования и их временном игнорировании.
3
Синьхуа. 2016. 18 мая. http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/18/c_1118891128.htm
4
Статья основана на выступлении автора на второй ежегодной лекции памяти Джозефа Нидэма в Институте Джозефа Нидэма в Кембридже (Великобритания) 27 октября 2017 г.
5
Статья основана на выступлении автора на «Форуме роста», совместно организованном Tencent News и Пекинским университетом в Давосе 25 января 2018 года.
6
Статья основана на программном выступлении автора 28 апреля 2018 г. в лекционном зале Дешэнмэнь.
7
Опубликовано 13 августа 2019 г. в газете «People's Daily».
8
Опубликовано в газете «The New York Times»1декабря 2017 г. под заголовком «What China Can Teach Developing Nations About Building Power» («Чему Китай может научить развивающиеся страны в построении власти»).
9
Статья основана на интервью с автором, опубликованном в апреле 2018 г. в «Деловом вестнике XXI века».
10
Статья основана на выступлении автора на пленарном заседании «Интерпретация новой теории развития Китая после XIX Национального конгресса» на ежегодной встрече Международного финансового форума в Гуанчжоу 17 ноября 2017 г.
11
Статья представляет собой программную речь, произнесённую автором на инаугурационной конференции Школы экономики (новой) Китайского университета Жэньминь (Ренминского университета Китая) и академическом симпозиуме, посвящённом эволюции и развитию экономики Китая за последние 70 лет, 23 марта 2019 г.