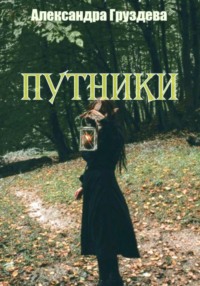Полная версия
Изменённые
Этого болвана не нарежешь, не сплавишь с кровью, не сделаешь тех слитков, что называют «наследными», с печатью. Единственное на что он годен – порошок не самого высокого качества, армировать низкородных, тех, кому не досталось наследства.
Верхний слой плотный, Генассия стучит костяшками пальцев по статуе – звучит. Звон глухой, низкий колоколец. У застывшего как надо, звон высокий, хрустальный.
– В лед его, пусть застынет.
Лед – единственный способ безопасно ускорить процесс. Так называют холодильную камеру, в которой холод подается со всех сторон непрерывно.
Это часа четыре. Четыре часа томительного безделья и ожидания. А все потому, что охотник не выполнил инструкции! На что он надеялся? Хотел сбежать из-под потока? Устраивался поудобнее? Профессор Генассия в гневе.
Помощник робко мнется рядом. Надо нести награду охотникам. Но Генассия не дает распоряжений. И сам не торопится в кабинет за золотом. Помощник уже сбегал на кухню и сложил в мешок большой судок риса, банку сине-зеленых пареных водорослей, контейнеры с ореховым протеином и три вареных яйца. Подумал и добавил две тонкие пластины сахара.
Обычно помощник выбегал на крышу, швырял мешок в сторону главаря и скрывался за дверью, чтобы не схлопотать, потому что начиналась драка. Так охотники делили награду.
– Пусть спустятся ко мне в кабинет.
– И яйцеголовый? – робко спрашивает помощник.
– И он.
Вообще-то, с этой охотничьей грязью принято на крыше разговаривать под стрекот коптера. Много не наговоришь. Наорешь – да. Выкрикнешь четкие указания. Но Генассия зовет их в кабинет. И они идут по узким коридорам Замка, стараясь не задевать стены грязными рукавами.
Служебные коридоры узкие, как кротовые ходы. Они пронизывают весь Замок насквозь. И можно быстро добраться из одной башни в другую. Не надо топать в обход по переходам и лестницам или выходить на улицу и огибать постройки.
– Сплошные убытки от вашего визита, – рычит Генассия.
– Ну, статую-то мы доставили, – вонючий воздух его бахвальства долетает до лица Генассии, он морщит нос. Профессор передергивает плечами от отвращения.
– Дрянная статуя!
Но главный все еще не верит, что награда им не достанется. Профессор принял охотничий трофей. Они облетели десяток Замков, нигде не захотели принять статую. Где-то говорили, что у них достаточно слитков. Где-то откровенно смеялись в лицо, едва постучав по золотой оболочке.
Хотя зачем тогда Генассия позвал их в кабинет? Всех, даже следопытов и загонщиков:
– Тварь никого не подпускала близко. Чудо, что она не раздавила статую.
Загонщики цокают языками, кивая друг другу на картину. На ней луноликий человек с круглым пучком волос на затылке приседает среди горы жесткой ткани, а в руках у него тонкий, кривой меч. Картина выглядит полинявшей, будто ее терли куском едкого мыла. А за картиной, в стене спрятан сейф.
Профессор Генассия прислоняется к столу, почти садится на него, для пущей устойчивости вцепляется пальцами в столешницу.
– Ну, расскажите мне о Создании.
Следопыты, загонщики и оставшийся в живых сборщик золота переглядываются. Никогда еще ни один замковый профессор не хотел знать подробности охоты. Они не знают, с чего начать, переминаются на месте. Начинают что-то лепетать.
– Вы ведь добыли статую не цивилизованным способом. Почти контрабандой. Это была дикая охота!
– Мы выследили их, – соглашается старший загонщик. – И не запрещено охотится на тварей в лесах. Это опасно, но не запрещено.
– Вы могли принести галлюциноз с собой. Откуда мне знать, что вы освободились от насланных иллюзий?
– Яйцеголовый нас проверил, – подает голос грязный, всклокоченный охотник.
– Я снял иллюзии, – подтверждает измененный, в подтверждение кивая своей высокой головой.
– Это был одиночный экземпляр или рядом было логово?
– Логово мы нашли, – внезапно обретает дар речи один из следопытов. – Но пустое. Все ушли, а эта тварь почему-то осталась.
– Разве так бывает? Разве они не стараются держаться вместе?
– Стараются. Потому мы и шли двумя отрядами. Думали, там толпа.
– А ты? – Генассия обращается к обладателю армированного мозга. – Что ты видел?
– Тварь насылала жуткий галлюциноз. Было тяжело пробиться. Она с неохотой открыла золотые глаза.
– И что? Что ты видел? – настойчиво требует Генассия.
На лысом вытянутом черепе яйцеголового выступают капли пота. Армированный не может при свидетелях напомнить профессору о том, что опасно пересказывать кошмары, насылаемые чудовищем. У охотников были щиты. Они ничего не видели, лишь чувствовали оцепенение в теле и ощущали некоторую муть в головах, может, тошноту. Но он-то видел, впускал в себя, чтобы из этих кошмаров, слепить образ, который даст команду чудовищу: «Прозрей! Открой глаза!»
– Дерево, – говорит он, чудовищно хрипя. Так велика его неохота выдавать тайны. – Вихрь цветов. Это был глубокий слой. Я использовал его для создания команды, – и тут тон яйцеголового меняется, и речь ускоряется. – А поверх – смерч с семенами травы, семена прорастали с бешеной скоростью не только в земле или в зданиях, но и в людях, – скороговоркой торопится он, и Генассия понимает, что тот врет. Врет, работает на охотников, чтобы они не теряли страха.
Конечно, кого напугает цветущее дерево? Охотники за щитами никогда не нюхали истинных видений. Они не знают, чем сопровождаются иллюзии.
– А потом?
– В нее ударила молния. Молния, вынырнувшая из-под воронки смерча. Обугленные ветви, мертвый ствол.
Генассия велит им выйти и обождать в коридоре. Охотники выходят, оставляя грязные следы на полу.
Он отпускает спину, та падает крючком. Сгорбленный и несчастный он сидит на краю стола.
Нет больше сакуры. Ни одной не найдешь на обжитых или диких территориях. Хотя, конечно, не все леса рискуют исследовать, там правят Создания. Охотники ходят по краю, редко забираются в чащу. А вдруг, где-нибудь там, в дремучих глубинах расступается лес и на поляне, пронизанной солнцем, цветет она, сакура. Такая невзрачная без своих украшений, цветов.
Кривые ветви-руки.
Тощий ствол.
Недоразумение.
Крона – переплетение веток.
Хаос, нарушение порядка.
Стихия.
Это было ему послание. Обугленное дерево. Мертвое. Создания помнят, они его не простили. Потому он и не отправил восвояси убогую делегацию. Потому их и не приняли ни в одном из Замков, куда они заворачивали пристроить добычу. Вернее, не так. Сначала принял, потом получил послание. Обычная инверсия для измененных. Для обычных людей выглядит как магия или дар предвидения. Но мозг измененных работает так быстро, и на таких частотах, что сам владелец не в курсе, что и зачем он делает, лишь постфактум понимает, к чему все было. Измененные учатся доверять своему мозгу.
А их яйцеголовый был слишком измотан, чтобы принимать верные решения, а когда чуть отошел, то нюхом почуял, куда надо лететь, и отдал команду.
Генассия отлепляется от стола, стряхивает с рук опилки, он искрошил край, так вцеплялся пальцами. Столешница – не из массива, разумеется, опилки, спрессованные между пластинами пластика. Надави – полезет труха. Она и лезет.
Генассия открывает сейф, отодвигает в сторону наследный слиток Ай в прозрачном футляре, вопреки правилам он хранит его в своем личном сейфе, а не в хранилище. Отсчитывает в мешок денег. Чуть больше, чем обычно. Но не столько, сколько полагается за человеческую статую. Недостойный экземпляр. Выходя из кабинета, сует мешок на завязках главарю. Тот подхватывает толстенького, звонкого.
– Ух, даже пахнет золотом!
Воспоминания Геннадия Оссии
Он встретил Сакуру до своего изменения. Тогда еще ничего не знали или знали мало. Геннадий Оссия специализировался по нейрохирургии. Готовился к тяжелой ординатуре. И приехал отдохнуть в Поселок. Когда бронировал, задумался, какой край истории и мира предпочесть? Японская рыбацкая деревушка соседствовала в лесу-заповеднике с древнерусской деревней, общиной друидов, поселением викингов. Была еще резервация австралийских аборигенов с красным песком, микроклиматом и искусственными горами, впрочем, на ощупь совсем настоящими. Но Геннадий выбрал рыбаков, условно японских.
Злые человеки утверждали, что все жители – хитрые комедианты, переодеваются для жизни то в одном поселке, то в другом. И нет никакой исторической правды ни в домах, ни в бытовом укладе. Но Геннадий не ехал за правдой, он хотел отдохнуть от города, от учебы. Прежде, чем он погрузится в жизнь клиники, прежде чем счет пойдет на смены и сутки.
Гаджеты не приветствовались. Но и не были запрещены. Люди бывалые советовали брать, потому что «от скуки и от свежего воздуха на второй день с ума сойдешь». Вот только заряжать их негде, это надо учесть. Геннадий учел. Три полных пауэр-бэнка, смартфон, планшет, электронная книга. Неизвестно, к чему потянет на отдыхе. Вдруг захочется стихи почитать? Он воображал отель, этнический, без особых удобств, в сердце островка дикой природы.
Бронь его не прошла. Оплату с карты не списали.
– Просто приезжай, – сказали бывалые. – У них сложности с сетью. Они в нее не верят.
Но ведь сеть не зависит от веры. Она просто есть.
В Поселке сети не было.
Не было администрации, не было рецепции, ему никто не встретился из обслуживающего персонала. Он пошел, согласно указателю к морю, и вышел к деревне.
– Пойдем, – Сакура кивнула ему, чтобы он следовал за ней. Привела в свой дом. И там он прожил четыре дня, не вспоминая о гаджетах.
На пятый день достал из рюкзака свитер, потому что вечера становились прохладными, и, увидел черное пятно на кармане для электроники. Втянул носом – пахнет перепревшей травой. Экран планшета покрывала черная слизь. И он не включался, не оживал. Геннадий попробовал соскрести слизь пальцем, но палец погрузился внутрь, экран превратился в жижу.
– Ты знаешь, что это? – спросил он у Сакуры.
Он стоял с планшетом, который стекал черной лужей на пол и воздетым к потолку указательным пальцем, с которого тоже капало.
Она забрала у него планшет, рюкзак, бросила в чан на улице, туда же отправила циновки с пола, и подожгла щелчком пальцев.
– Ты что делаешь? Там батареи, они взорвутся! Пластик! Ядовитые пары!
Но гаджеты лишь шипели и выделяли едкий дым.
Над его руками колдовала долго. Держала свои руки над его ладонями. И он чувствовал жар. А когда стало нестерпимо, хотел отдернуть руки, но не смог. Он не чувствовал их, они онемели.
– Палец лучше отрезать.
– Что?
– Всего фалангу отнять, – успокоила она.
Будто это успокаивало.
– Нет. Как же моя работа? Нет, не могу.
Но он не договорил, не успел объяснить.
Она перегрызла фалангу. Вот так просто. Как зверь, клацнула острыми зубами. Сплюнула черный кончик. А рот прополоскала кипящим отваром с неведомыми Геннадию ингредиентами. Он ничего не почувствовал онемевшей рукой, и не смог вымолвить слова онемевшим языком.
Когда он по десять-двенадцать часов ассистировал на операциях «очистки», как тогда это называли, он всегда вспоминал Сакуру. Еще тогда верили, что людей с «гнездами» в голове можно спасти.
Короткий палец ему не мешал. Он научился быстро. И никто его даже не пытался отстранить от практики. Потому что врачей, нейрохирургов стало не хватать. Потом, когда узнали, что «гнезда» заразны, невидимые споры поражают всех, кто вскрывает череп. Работали сначала в защитных костюмах. Потом пытались действовать тонкими манипуляторами в камерах. Ничего не получалось. Все оборудование оказывалось зараженным. Споры уничтожал только огонь. А потом выяснили, что и не всегда уничтожал. Оборудование расплавилось бы от такой дезинфекции.
И только доктор Генассия, как его теперь называли, по двенадцать часов не вставал с хирургического кресла в операционной, выскребая «гнезда», и не боясь заразиться. Он не заразился. Но знал, чувствовал, что удача его не бесконечна. И одним из первых пошел на армирование мозга – на Изменение.
Глава 4 Башня
Коптер стрекочет, как облако стрекоз. Оглушает. Профессор Генассия поправляет наушники – ремень плотно охватывает лоб и затылок. Контакт барахлит, и он слышит бубнеж пилотов, но не может различить разговора. Это угнетает. И он стучит согнутым пальцем то по одному уху, то по второму, чтобы заглушить невнятную болтовню.
Этот шепот и треск мешает думать. А ему надо сосредоточиться. Коптер нагружен слитками тех, кому предстоит операция в ближайшее время. Он везет слитки на проверку, с тех, которые окажутся достойными, сведут печати. Ему надо вспомнить всех детей, вспомнить до мелочей. А это не так уж и просто даже с его измененной головой. Воспоминания даются медленно, они тянутся, как липкий сироп, рисуют иероглиф на тарелке: пещера и ремесло вместе дают пустоту и еще десяток значений-спутников. Смыслы наслаиваются, склеиваются.
Он знает, почему трава пощадила иероглифику или ему кажется, что он знает. Иероглифы похожи на спутанный комок травы. А она не уничтожает себе подобных. Здесь, в Замке, нетронутых детей они пытаются учить буквам, но даже без прямого вмешательства травы смысл угасает, однозначный знак им понять трудно, после операции почти никто не помнит, как различать и понимать буквенное письмо, остается многозначный иероглиф. И каждый понимает его по-своему, – горько усмехается Геннассия. – Кто сколько смыслов сумеет ухватить и вынести из банка памяти.
И вот он опять отвлекся. Виной тому океан травы, что растекся внизу. Генассия вытягивает шею, смотрит вниз. Бирюзовые на солнце стебли, как руки, тянутся вверх, пытаясь схватить коптер. Другие извиваются, пытаясь загнать тень от коптера в котел. И так Генассия понимает, что трава не сильна в различении объектов и их проекций.
«Ей бы только жрать», – с отвращением думает он.
Это дикая трава – она сильная и гибкая. Интересно, защитит ли его Изменение, если он упадет вниз, в самую гущу?
– Эй! – кричит он пилотам. – Заткнитесь!
Соображает, что должен был нажать кнопку и сказать в микрофон. Но кнопка, зараза, запала и не работает.
Ему надо вспомнить. Он делает усилие. Шрам-опояска начинает пульсировать. Лоб наливается болью. Воспоминания извлекаются и распаковываются.
Он думает о слитке Ай. Слиток его дочери идеален. Если бы она была усердна в учебе, он бы не волновался по поводу операции. Но Ай ленива и беспечна. Единственное, что у нее получается неплохо – помогать в Больничном крыле.
Снова мошкара копошится в ухе. Треск и далекая болтовня. Генассия нетерпеливо стучит по амбушюру. Треск тускнеет, становится переносимым.
Слитки – золото Созданий сплавленное с человеческой кровью, запечатанные особой печатью, благодаря которой их нельзя разрушить. Кровавые ритуалы профессору не по душе. Это так похоже на древнюю темную магию. На дремучее невежество, а он так его ненавидит. Генассия презрительно кривит лицо и привычно, в задумчивости, потирает шрам-опояску. Рука наталкивается на ремень наушников.
Он снова заставляет себя направлено вспоминать, а не разбредаться праздными мыслями. У него большие надежды на мальчишку – учится хорошо, все данные есть, слиток наследный высочайшего качества. Он думает о Принце, и улыбка всплывает на его лице. Имя-то у парня говорящее! Замок даст Башне принцепса.
***
Коптер выпускает его на верхней площадке Башни, Генассия выбегает из-под винтов и ныряет в люк, на лестницу, тоже по иронии, винтовую. Коптер тут же взмывает ввысь, как ужаленный. Он не может оставаться на Башне.
В руке у Генассии контейнер со слитками, каждый надежно закреплен в своем гнезде. Печати – как лица. Слиток Ай он несет в сумке под мышкой. Сумка незаметна под мантией.
Генассия в профессорской мантии, это не очень удобно. Особенно, когда он выпрыгивал из коптера, чуть не зацепился краем. Да и ветер, дурак, раздувает полы. Норовит накрыть голову подолом, как капюшоном. Но в башню нужно являться в рабочей одежде, при статусе и регалиях.
У подножия лестницы его ждет Измененный. Высокая голова, шея закована в поддерживающий воротник. Не принцепс, нет. Пожалуй, секондарий или трес. Он, молча, кланяется Генассии, не глубоко, лишь как дань вежливости, берет из его рук контейнер. Тут же Измененного перекашивает от тяжести. Слитков неожиданно много. Обычно привозят по два-три. Но, судя по весу, в этот раз не меньше десятка.
Генассия не называет его по имени. Ведь измененные из Хрустальной башни теряют свои имена. Они приобретают функции.
– Профессор Генассия, – говорит Измененный учтиво и показывает, что следовать нужно за ним, хотя Генассия прекрасно знает, куда надо идти. И это обращение по имени будто сразу унижает его, Генассию. Здесь он не крутой проф, а всего лишь посланник, посредник с контейнером слитков, курьер. Ведь он не может ответить Измененному тем же, он даже не понимает, какую функцию тот выполняет.
Они проходят в одну из секций Башни. По тому, что спускаться приходится недолго, Генассия понимает, что они высоко. Все секции похожи. Лестница буравит Башню насквозь. Вдоль прозрачных стен расположены кресла на расстоянии вытянутой руки. Мягкие удобные, подвижные вокруг своей оси, кресла, с подлокотниками и подголовниками специально под вытянутые головы измененных. В такое хочется сесть тут же, откинуть голову, расслабиться.
Он обращает внимание на голову Измененного, который его встречает. Его голова чиста, никаких париков или шляп. По ней бегут синие прожилки вен. Кожа нежная, просвечивает. Такие высокие головы только у измененных из Башни. Голова Генассии выглядит скромным холмом, по сравнению с величественной горой провожатого.
Измененный ставит контейнер возле одного из кресел. Садится. Отщелкивает застежки.
– Встаньте за моим креслом, профессор.
Генассия знает процедуру, но сейчас он замер, завис. Он никак не решит, стоит ли показывать слиток Ай. У нее еще есть время – месяц, два, может, полгода. И потом он обещал Сакуре, не делать операцию дочери, пока не будет уверен. Чего он робеет? Он уверен. Ай должна измениться, чтобы жить. Она не стихийная, нет. А значит трава может поглотить ее в любой момент, съесть разум, разрушить речь.
Надо решаться, пока он один на один с Измененным. Потом войдут остальные, начнется процедура. Печати будут сведены, слитки уложены обратно, и Генассия отправится в Замок.
– Мне нужно, чтобы вы думали о детях, которые отражены в слитках. Об их пристрастиях, о характерах, о поведении, способностях и так далее, все, что знаете о них. Не транслируйте мне, просто думайте. Любым привычным для вас способом: образом или текстом.
Генассия кивает. Он пробует сосредоточиться на первом слитке, который Измененный освободил из гнезда, взял длинными пальцами за края защитного футляра. Измененный откидывается на спинку кресла, поудобнее устраивает голову, и ждет потока информации от профессора.
Генассия честно пытается рассказать о владелице слитка. Смышленая девчонка. Очень старательная. И вдруг сбивается… Перед глазами возникает лицо дочери.
Генассия не понимает сам себя, но прижимает сумку со слитком все крепче к боку. И даже руки сцепил на груди в замок.
– Вы напряжены, – замечает Измененный. – И у вас есть еще один слиток. Под мышкой.
А он думал, что скроет от Изменнного слиток? Серьезно?
– Это так… – мямлит Генассия и не узнает себя снова.
– Покажите.
Генассия выпутывает сумку из-под складок мантии. Осторожно передает слиток Измененному. Тот проводит ладонью по прозрачному футляру, будто пытается стереть пыль, заставить сиять слиток еще ярче.
– Слиток вашей дочери. И в нем кровь стихийной.
– Ее мать была… м-м-м… да.
– Это хорошо. Если наследный слиток мост над пропастью – это хорошо. Связывает берега. Главное, чтобы девочка не поддалась стихии. Подумайте о ней. Дайте мне больше информации.
Генассия старательно думает, вспоминает.
– Как трогательно, – произносит Измененный, глазные яблоки под опущенными тонкими веками дрожат и скользят вправо-влево, – она не хотела разлучаться с матерью.
– Она была очень привязана к ней.
– Сакура – красивый образ.
– Это ее имя.
– Вы любили ее. И любите, – Измененный открывает глаза. – Так странно. Вы осознаете ее ограничения, ее заблуждения, но все равно испытываете чувства. Неужели Волны не стерли ваши воспоминания о ней?
– Кое-что пропало, – и в голосе Генассии против воли звучит сожаление. – Раньше считали, что Волны не влияют на измененных. И мы не прятались от них. Но теперь спускаемся в убежище при малейшем намеке на приближение.
– Влияют, но не так, как на обычных людей.
Пальцы продолжают исследовать слиток. Наконец, Измененный вздыхает и больше не закрывает глаз:
– Ваша дочь на распутье. Вы правильно сделали, что привезли ее слиток. В ее нынешнем положении она опасна. Она колеблется. А нет никого хуже сомневающихся. Она плохо учится. Не достаточно усердна. Потому что не верит нам, не верит вам, профессор Генассия. Не верит в то, что измененные – настоящее и будущее этого мира. Кровь стихийной очень сильна в ней, это она вынуждает ее сомневаться. Но вовремя произведенная операция спасет ее и всех нас.
– У нее еще есть время.
– Есть, – кивает тяжелой головой Измененный. – Но немного. Займемся нашей работой.
Бывают повреждения, которые не мешают изменению. Мозг пластичен и отвечает новыми нейронными связями. Одна лишь операция ничего не решает. Как мозг сможет справится после – вот показатель успеха. Как будет прибывать мозговое вещество, новые связи, как будет расти голова. Яйцом или пузырем. Обладателей пузырей умерщвляют. Патологично разросшийся мозг – в банку. Изучать и делать выводы.
Генассия вздыхает. И начинает добросовестно вспоминать всех детей, слитки которых перебирает Измененный.
***
В Замке на экране во всю стену трепещет волна. Вдруг случается что-то незаметное глазу и волна идет рывками, углубляя синусоиду. И снова почти гладь.
В волновой камере принято сидеть на полу – для этого разбросаны небольшие подушки, сплюснутые блины. Сидеть и наблюдать за волной. Кому повезло – опираются спиной на стену. Сидеть нужно долго, не закрывая глаз, вдыхать запах. А пахнет здесь солью и йодом, сгнившими водорослями и сухим песком. Спрятанные в потолке и стенах устройства имитируют запахи океана. Говорят, что именно под их действием нервная система расслабляется.
А когда расслабляется нервная система тебя начинают глушить ритмами. Ритм разной частоты тоже испускают устройства. Сигма-веретенца сменяют на жесткую альфа, только ты приспособишься, как врубают томную бэту и тут же без перехода стучит зловещий тэта-ритм. И каждый раз ученик должен жестко фиксировать волну, мысленно ее описывать, следить за изгибами взглядом.
Про волну известно, что она якобы замерена в настоящих океанах, на разных участках и разных глубинах. Но проверить это никак нельзя.
В волновой камере Ай всегда охватывает чувство безысходности, кажется, что ничего на свете не осталось – ни морей, ни океанов, лишь эта оцифрованная, насмешливо выгибающая спину волна.
Ай повезло – есть место у стены, а то трудно сосредоточится, когда после часа отсидки, боль спицей пронзает позвоночник. Самое трудное – не закрывать глаз. Синусоида волны убаюкивает, глаза начинают слипаться.
И вот то ли во сне, то ли наяву, рядом с ней на подушку опускается Принц, прислоняется к стене, откидывает голову и закрывает глаза.
Ай испуганно вздрагивает, открывает глаза, таращит их в полумраке. Но, как под закрытыми веками, так и сейчас перед ней скачет волна. Она скашивает глаза в сторону. Кто-то сидит рядом, отбивая ритм пальцами на коленке.
Она осторожно поворачивает голову. И тот, кто рядом, тоже поворачивает голову к ней. Глаз Принца хитро посматривает из-под длинной косой челки. В расширенном темном зрачке серебряной нитью изгибается волна.
Ай замечает, что пальцы у нее сжаты в кулаки, ногти больно впиваются в ладонь. Она твердит, что все, что сейчас может случиться – это воля волны и ритма, который задают мозгу устройства. Пока не синхронизируется частота мозговых волн и экранной волны.
Волны сплетаются в пульсирующем ритме. Принц тянется к ней, а она тянется к Принцу. И губы, как изгибы волн, сходятся. Поцелуй легкий, в одно касание. Они отстраняются друг от друга. И серебряная нить прошивает зрачки. И снова, как под гипнозом, их губы сливаются вновь, пальцы переплетаются. Поцелуй длится и длится, пока не сменяется ритм, вялые, безучастные, они отворачиваются, смотрят остекленевшими глазами прямо на экран с волной, скользят по ее изгибам взглядом и сухими губами проговаривают что-то неслышно, фиксируя, ее изменчивость.
А перед ними до самого экрана головы, макушки с гладкими прическами или торчащими, вопреки уставу, вихрами, оттопыренные уши, приподнятые плечи, сутулые от усталости спины. Амплитуда волны нарастает. И кажется, в ушах грохочет океанский прибой.