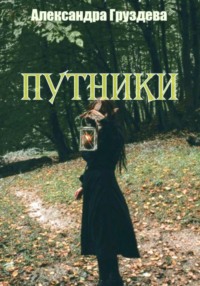Полная версия
Изменённые
Но откуда-то же взялся он, Читер? Люди рождаются. Значит, и он родился. А каким путем? Из живота женщины или из искусственной матки? Это было оплодотворение по старинке или, как полагается, в стерильной чистоте кабинета и руки врача были в перчатках? Воспитывали его в семье, родной или приемной, или в интернате?
Такое ощущение, что он возник сразу вместе с каналом и «головами»-подписчиками, с игрой в доставку, и возникает каждый день, есть только "здесь и сейчас".
И, как всегда, записывая мемориз, Читер ловит себя на этом. На том, что думать становится трудно. Очень трудно задавать себе вопросы, и натыкаться на пустоту, на отсутствие ответов. И хочется бросить это дело. Обычно Читер так и поступает – бросает. Его хватает на один мемориз. Но сейчас Читер делает над собой усилие и записывает дальше.
Вот он, вывих памяти. Ты можешь все знать о стране, где ты живешь, ты помнишь свой адрес, и дату сегодняшнюю. Но каждый прошлый день становится все бледнее и бледнее, пока не исчезает. У Читера есть хотя бы иллюзия памяти – его стримы. Не потому ли так много стримеров развелось? И ему кажется, что он помнит то и это, и то, что было много дней назад. Но иногда он смотрит на свои старые стримы вытаращенными глазами, когда это было? Редко пересматривает, может, чтобы не наткнуться на вот такое ощущение. Темы кажутся неинтересными, ненужными. По-хорошему, надо бы удалять и не платить за лишнее место, но Читер отчего-то не удаляет.
Пока двигаться дальше в теме он не может. Но мемориз записаны и надежно сохранены. Через какое-то время он снова вернется к ним. Пересмотрит, что-то добавит. Только так и можно идти вперед, мелкими шажками. А если вдруг он потеряет интерес, не сможет ничего добавить. Ну, значит и тема мелкая. Но Читер знает, не мелкая, а очень даже обширная, вот потому и трудно к ней подступиться.
Он устал. Только сейчас он чувствует, как устал. В голове гул. В глазах плавает песок. Он смаргивает, песок наплывает снова.
***
На деревянном настиле, что опоясывает дом, валяется пластиковый цветочный горшок.
Потом Читер будет вспоминать, восстанавливая каждое действие, кадр за кадром, как потянулся к горшку лениво. Пальцем, как крючком зацепил, палец ушел в сырую землю, подтащил к себе. И тут же с испугом, рефлекторно отбросил. Горшок покатился по настилу, теряя землю, россыпью, комками. А что там? Что? Откуда страх? Ничего там нет.
Он подошел к откатившемуся горшку. Когда-то в нем что-то росло. Но теперь он пуст. Читеру показалось. Мелькнул острый голубоватый край и скрылся в земле. Вот, что показалось Читеру. Иначе как песком в глазах и не объяснишь.
Чтобы кто-то растил траву в цветочном горшке себе на потеху? Ерунда. Пустяк. Уже в глазах все плывет. И тени обступают. И лучше уходить. Он осмотрел палец. Крошечный порез, даже не до крови. Чего так перепугался? Сердце стучит. Подмышки вспотели. Не веришь в траву, а как порезался какой-то ерундой из цветочного горшка, так зассал?
Из восстановленных воспоминаний Ай
– В ребенке сосредоточие магии, ее центр, – говорила Сакура, расчесывая мои волосы перед сном. – Помню, я колдовала с детства и даже не задумывалась о том, что колдую.
– А что ты делала?
– Разбивала бутылки взглядом. Мой отец был алкоголиком и каждый раз заявлялся домой с парой бутылок вина. Я пряталась за дверью, подглядывала в щелку, и бах, бах – бутылки взрывались у него в руках. Пойло выливалось на пол. Он ругался и кричал. Думал, что виной тому брожение, непрочные пробки. Плутовство лавочника, наконец. Он подозревал всех. Меня заподозрил в последнюю очередь.
– И?
Кажется, мама задумалась. Молча, расчесывала мои волосы, длинные, ниже пояса.
– Было больно, – призналась она, собравшись с духом. – Взрослый, рассерженный мужчина может натворить много бед. Жаль, но моей магии не хватило, чтобы он бросил пить.
Мама сняла несколько волосков с деревянного гребня, расправила на ладони, подула на них. Волоски исчезли.
– Вот, теперь волосы станут гуще и шелковистее. Разве не чудесно? Когда ты дитя, магия неуправляема, она вырывается из тебя всполохами, разлетается искрами от огня, что разгорается в тебе. Учеба призвана направить силу, сделать ее грозной, но безопасной для окружающих. Другое дело, что детей меняют. Пытаются перенести магию отсюда – она положила руку на солнечное сплетение, – сюда, – Сакура постучала по лбу. – Подчинение разуму – благое дело. Но не всем оно подходит. И не всякая магия готова подчиняться. Иногда она как стихия, как поток, который несет тебя, а ты щепка. И вдруг, представь, щепка начинает думать. Начинает воображать, что ее знаний и самоконтроля достаточно, чтобы управлять горной рекой. Смешно!
И я вспомнила тянущуюся вверх, к звездам, голову отца. Мне всегда казалось, что отец, профессор Генассия, выглядит таким благородным именно потому, что изменен, ведь форма черепа всем, даже непосвященным, указывает на его силу.
– Измененные теряют возможность творить магию на каждый день. Они бесполезны в быту. Не разожгут огонь щелчком пальцев. Не подуют на опавшую листву в саду, чтобы она собралась в аккуратные кучки. Они всего этого не могут.
В ночной рубашке я забралась в постель, глаза слипались.
– А что они могут?
Я уже почти спала и не была уверена, что правильно расслышала и поняла слова матери.
– Они могут причинять зло и править миром, – сказала мама и, стоило ей перевести взгляд печальных, чуть прищуренных глаз, на лампу, как фитилек за стеклом сам собой потух, а спальню наполнил мягкий серебристый свет, который исходил от самой Сакуры.
***
Мне не досталось маминой магии. Когда я пробовала погасить лампу со свечой внутри и щелкала пальцами, то в лучшем случае ничего не происходило, но частенько я сбивала стеклянный колпак, бывало, что обжигалась о свечку. Всегда легче было задуть огонь, чем щелкать на него, от щелчков только пальцы болели, а пламя даже не колыхалось, даже не раздумывало, гаснуть ему или нет.
– Ты ведь сама говорила, что для детей магия – это как дыхание. Легко, без усилий, – с обидой выговаривала я маме.
– Ты другая. Но это не значит, что в тебе нет магии. Она есть. Она есть во всех детях.
– Но у меня не получается!
– Значит, ты делаешь что-то не то. Не то, что тебе предназначено.
Мне слышались в ее словах печаль и горечь. И хотелось заглушить в себе это знание, поэтому я кричала:
– Не хочу быть как отец! Не хочу! Хочу как ты! Мама, пожалуйста!
– Но что я могу? – разводила руками Сакура. – Сила распорядилась иначе, – и фитиль в лампе начинал подмигивать и искрить.
***
Гости в мамином доме всегда что-нибудь разбивали или ломали. Посуду били чаще всего. Чайные чашки кидали под ноги в гневе и топтали в порыве отчаяния. Растоптанные в пудру черепки, Сакура собирала тоже, чтобы смешать их с клеем, добавить к другим, которым повезло больше, а гнева и отчаяния досталось меньше.
Она собирала в лесу клейкий сок растений, готовила из него замазку. Не по старинным традициям, которые бытовали когда-то, а по своим собственным рецептам. В крошечном тигле вскипало пузырями золото, рядом в котелке бурчал клей.
Огонь разжигала особый, красный. Не оранжевый или желтый, с синей сердцевиной, а красный, как кровь, казалось, в нем тлели рубины.
– Это души уставших деревьев, – поясняла Сакура, когда спрашивали, как она достигает такого цвета пламени: какой-то секретный порошок? Фокус?
– Души? Деревьев? – переспрашивали гости, недоверчиво улыбаясь.
Впрочем, так они улыбались только в первые дни. Во все последующие визиты они уже не были столь скептичны, магия Сакуры была неоспорима. Ею оставалось только восхищаться.
Кисточки и стеки поворачивались в руках Сакуры, словно волшебные ключи. Она соединяла осколки, промазывала их клеем, а потом, когда раствор подсыхал, расплавленным золотом. Но казалось, что дело не в клее и не в золоте, а в чутких руках Сакуры, стоило ей провести пальцем, как черепки срастались, ни у кого больше не получалось так точно подогнать один осколок к другому.
– Каждая трещина – это история, она должна быть видна и подчеркнута. Такая посуда начинает говорить, стоит взять ее в руки, она рассказывает свою судьбу и судьбу тех, кто прикасался к ней. Совсем как человек.
Я помогала маме склеивать чашки и блюдца. У меня не получалось сделать так точно, как выходило у нее. Но мама всегда говорила:
– Твои вещи особенные. В них видна ты сама. Это хорошо.
***
Часто я уходила на весь день, играла с ребятами, а когда возвращалась к нашему дому, то старалась ступать тихо, на крыльцо взбиралась осторожно, чтобы ни одна скрипучая доска меня не выдала. А все для того, чтобы услышать то, что для моих ушей не предназначено, то, что скрыто, то что не договаривают, о чем молчат и лишь обмениваются взглядами при посторонних.
– Оставь ее, – и голос у мамы был умоляющий. – Не забирай.
– Что она будет делать здесь? Она не стихийная, не забывай. Ведь нет? Нет?
– Нет, – и я так и видела, как она печально качнула головой, как делала это обычно, огорчаясь. – Не замечала. Она не может даже простого.
Кажется, отец вздохнул с облегчением. Будто каждый раз, навещая нас, он боялся, что стихия проявится во мне, как наглая ветвь под порывом злого ветра прорывает лист бумаги на раме-стене.
– Ваш поселок лишь притворяется единением с природой. Скоро стихия сметет и его. Мы знаем, что надо строить прочно, вступать с ней в конфликт. Нужны мощные камни и мощные стены и такие растворы, в которых было бы много силы и крепости. Мы должны придумывать наш мир заново, чтобы стихия не посягнула на него. А ваши деревянные рамки, бумажные стенки, просвечивающий закат и живой огонь, – все ваши попытки стать своими, слиться со стихией, обречены. Сакура, стихия вытолкнет вас в леса, и там уничтожит по одному. Что будет с Ай? Она пойдет на корм Созданиям.
– Обещай, что не причинишь ей зла. Что убедишься в том, что она… она… прежде чем решишься искромсать ей голову.
– Мы ведь все решили с тобой, давно. И кровь ты отдала по своей воле, я тебя не принуждал.
– Я многое решила. Под твоим влиянием. Твои слова пугали меня. Путали. Заставляли блуждать тропами. Ты уезжал, а твои слова оставались. И я думала, и не знала, что делать. У вас не получится отгородиться. Как можно лишить себя дождя? И солнечного света? Ветра и моря?
– Все начинается здесь, – и я все равно что вижу, как он постучал себя согнутым пальцем по лбу, аккурат, по линии раздела, по терновому венцу – шву от операции. – Здесь творится новая реальность. Здесь не остается ни малейшего шанса магии.
Сакура молчала, а когда заговорила, то голос ее звучал насмешливо:
– Ну, да ваше золото ведь результат технологического прогресса?
– Мы помещаем золото Созданий туда, где оно не изменит личность, но даст возможность изменить картину мира. Если мозг справится с ним, то оно будет служить верой и правдой. Но мы не сливаемся с Созданиями в экстазе и не лезем обниматься со скользкими тварями. Они сырье для нашего развития. А вы обожествляете их. Будто они новые боги, которые спустились на землю.
«Новые боги. Новые боги», – повторяла я, когда бежала от домика вниз, к морю, по тропинке. Я не хотела лишиться всего этого: моря, леса, нашей деревни и, конечно, я не хотела расставаться с мамой.
«Не отдавай меня ему. Не отдавай. Не отдавайте. Не отдавайте», – твердила я, вспоминая про новых богов, которым, как и старым богами, наверное, надо молиться, а еще их можно просить о лучшей жизни.
Глава 3 Больничное крыло
Когда утром просыпаешься от тошноты, можешь не сомневаться, сегодня твой больничный день. После завтрака Ай заступать на смену. Двенадцать часов белых стен, кровохарканья, воняющих тел, резкого запаха лекарств, свистящего шепота и заунывного воя прооперированных, которые раскачиваются в кроватях, держась за головы.
Ай не может есть. Овсянка и яйцо остаются нетронутыми. Она выпивает немного сладкого кофе, чтобы поддержать силы и унять бунтующий желудок.
Первое, что ты встречаешь в больничном крыле, – страх. Он вполне осязаем. Ты вдыхаешь его. Ты цепляешь его на лицо вместе с маской. Ты переодеваешься в него, когда меняешь школьную одежду на розовую больничную униформу.
Вынести «утки», поправить сползшие одеяла, помыть полы с раздражающей хлоркой. Глаза щиплет, руки засыхают и трескаются, как кора деревьев. А вокруг снуют чистенькие медсестры в белых чепчиках с крылышками, разносят лекарство, ставят капельницы. В полдень – обход. Вереница врачей в зеленом с профессором Генассией во главе.
На зеленом не так ярко проступает кровь. Обман, снова обман.
Ай помнит, как их приводили смотреть на операции. Заставляли смотреть тех, кто отворачивался.
– Вы должны понять, что бояться нечего.
Жертва не должна испытывать страха. Лишь хлопать глазами. Идти на казнь с полным доверием к палачам. Так тогда казалось Ай.
Дети стояли за стеклом, сжимали холодеющие руки. Не слышали, но видели все. Вот он, подопытный, со снятой черепушкой. Руки и ноги привязаны к креслу, мягкий горловой и жесткий головной зажим. Во время операции ему показывали карточки, а он, бескровными губами, называл, что на них изображено. Нейрохирург в это время армировал его мозг, сверяясь со схемой. Десять часов.
А потом, во время восстановления в палате, этот самый парень не смог есть. Рвотный рефлекс вываливал еду на пластиковый нагрудник. Раз за разом. Его кормили внутривенно, пока могли. А когда больше не смогли, его вычеркнули. Ай сама видела, как на обходе, ее отец вычеркнул номер с именем пациента из списка.
Его мозг прошел через «овощерезку» и достался науке, чтобы ученые могли выяснить, что же пошло не так. А еще позже его измененный кусок мозга демонстрировали на занятии по биологии. Ай и остальные зарисовывали в тетради схему армирования.
Бояться нечего, кроме того, что ты станешь ахо, и тебя вычеркнут, а твой мозг запрут мокнуть в банке.
Резиновые зеленые перчатки до локтей. Торжественно вносят слиток. Его нагревают, золото размягчается, едва держит контур, вот-вот поплывет. Гибкие пальцы-змеи крутят проволочки из мягкого золота, от слитка, как от куска пирога, резак отслаивает тонкие пластины. На пальцах перчаток специальный рельеф, который отпечатывается на проволоке и останется памятью в конечном веществе, которым армируют, укрепляют глию, клетки вокруг нейронов. В специальной камере части слитка по очереди осаждают в порошок.
Ассистент следит за приборами. Нейрохирург водит руками над экраном, контролируя манипулятор. Тот вживляет крошечные крупинки в глиальные клетки. Строит из них цепочку, зигзаг. Не случайно. По схеме. Схема расписывается для каждого профессором Генассией.
Конечно, случаются ошибки. Скакнет напряжение. Манипулятор дрогнет. Крупинка упадет мимо схемы. Ошибки неизбежны. Измененный мозг должен справиться с ними. Для этого и дается долгая реабилитация в больничном крыле.
После сплавки с кровью, осадить в порошок слиток можно лишь однажды. В нем запускаются процессы, формулы которых Ай и остальные записывают на классах химии.
– Вас учат не бояться, – неоднократно повторял ей отец.
Страх пациента мешает операции. Любые сильные эмоции мешают операции. Но и искусственно их тормозить нельзя, порошок «не схватится». Тех, кто боится, не оперируют. Их долго готовят. Если они так и не сумеют побороть страх, их списывают. Они становятся санитарами или уборщиками, живут в Замке. Но они никогда не смогут уехать туда, где строится мир. Там работают только измененные, успешные.
***
Вотч на запястье попискивает, когда Ай накидывает мантию поверх больничной формы и выскальзывает из-за тяжелой двери отделения. Осталось девять часов. Она быстрым шагом идет по коридору прочь. Прочь от больничного запаха, который догоняет. Свернув за угол, бежит, подошвы кроссовок приятно пружинят. Вотч попискивает уже угрожающе, расстояние увеличивается, для простой передышки слишком большое. Вот-вот начнет мигать красным и рассылать тревожные сообщения: надзорщице, старшей медсестре, дежурному врачу.
Но Ай останавливается у самой черты. Незримой черты.
– Не будь засранцем, – шепчет она вотчу. – Не будь против меня.
Вотч ее родной, с облупленным ремешком, защитное стекло в царапинах и сколах. Он крутит музыку позапрошлого столетия, не у всех есть такое в функциях, а вот он как-то получил доступ в архаичную медиатеку. Смышленый.
Ай опускается на каменный пол, спиной к стене. У нее есть десять минут передышки. Вотч подаст сигнал, когда надо возвращаться. Хоть бы он забыл. Но он не забудет. Ай закрывает руками лицо. Вдавливает пальцы в лоб, в щеки. Сколько раз твердили: голова тебе не принадлежит, она принадлежит будущему. И в больничном крыле в каждой палате – подтверждение.
«What can I do…», – самовольно затягивает вотч древнюю балладу.
Ай поправляет бусинку наушника в ухе. Звук становится чище.
Иногда ей кажется, что вотч разговаривает с ней. Вот как сейчас. Но она гонит прочь эти мысли. Трава тоже разговаривает с людьми.
Шух-шух, – по коридору кто-то идет, не утруждая себя поднимать ноги, шаркает кроссовками.
Ай подтягивает коленки под мантию. И жалеет, что это не мантия-невидимка.
***
Принц садится рядом. Ковыряет кроссовки с разноцветными шнурками. Затягивает их, распускает. Не поднимая головы от шнуровки, бурчит:
– У тебя операция скоро?
– Не очень. А у тебя?
– Мне сказали готовится. Неделя-две и разрежут, – он говорит бодро, нарочно безразличным тоном. Но Ай замечает дрожь.
Она чувствует, как тело Принца прошивают разряды. Он искрит.
– Боишься?
Вместо ответа он снова распускает шнурки.
Ай задает вопрос по-другому:
– Не хочешь?
– Не хочу идиотом остаться.
– То есть таким, как сейчас?
Он отрывает взгляд от шнурков и смотрит ей прямо в глаза. Злая шутка пролетела мимо цели.
И тут до Ай вдруг доходит, что он мальчик из долины. Говорят, что в долине люди спариваются, как дикие животные. Они ничего не чувствуют, но инстинкт толкает их друг к другу, чтобы жизнь продолжалась, из-за этих случайных связей рождается много ахо. В долине редко можно найти подходящих детей для армирования, обычно их операции проходят неудачно. Она хочет пробормотать извинение, но он перебивает ее:
– Ты ведь дочь Генассии. Верно?
Она кивает. Трудно поверить, что у блестящего профессора Генассии тупица-дочь, которая ходит в отстающих.
– Как он? В смысле, я знаю, что он крутой проф. И много сделал операций. И мне сделает. И все будет ок. Он сейчас в порядке?
И все-таки Принц боится… Хотя ведь его многократно проверяли. Слиток у него один из лучших. И он первый ученик. А значить, его связь со слитком крепкая и надежная, а это половина успеха операции.
– В порядке ли мой отец? – переспрашивает Ай. – То есть, не пьет ли он? Не дрожат ли у него руки?
– Что-то вроде…
– Ну, он трезвенник, каких поискать. И поверь, он умеет держать себя в руках.
– А, тогда хорошо, – он мнется, хочет еще что-то сказать, но так и не говорит. – Ну, я пошел.
– Как зовут тебя? – вдруг решает она крикнуть ему вслед.
А то все Принц, да Принц…
– Принс. Или Принц из-за здешнего произношения. Не знала? В честь какого-то древнего певца. Слепого, кажется.
– Это Гомер был слепым. А еще нелепым, с дурацкой прической заборчиком!
– Это другой Гомер. Сим-п-сон.
– Точно! Все перепуталось. Он каким-то телепроповедником был.
– Да, вроде.
И все-таки он настоящий Принц, черт его дери!
– Ты из долины, а я из парка, – зачем-то говорит она.
– Знаю. В парках трава повсюду, она действует на мозги, даже если не заражает. Связь со слитком слабая, и ветер в голове шумит, будто лес.
– Откуда знаешь?
– На лекции говорили.
– А ты все лекции помнишь? – Ай подбавляет безразличия в голосе, и думает, что хорошо справляется, но вопреки желанию, в вопросе сквозить жадная зависть.
– Не все. Но большинство помню.
– Помоги с домашкой, – вдруг вырывается у нее.
Принц удивлен. Наверное, его никто никогда о таком не просил. Он растерян:
– Хорошо, – осторожно, отвечает он, будто пробует ногой воду, не холодная ли, не горячая.
Он хочет еще что-то спросить, но внезапно передумывает, делает знак ладонью:
– Ну, пока.
– Сайонара! – отвечает она ему дурацким школьным прощанием, и сама не узнает себя.
Принц хмыкает и сворачивает за угол.
Вотч нежно завывает в ухо: «Purple rain, purple rain…», – старая концертная запись, где слышны голоса и визг публики, наполняет пространство мрачного коридора качающим драйвом.
Но даже Принцу не удастся остаться красавчиком после операции. Будет пускать слюни и учиться держать ложку. Она готова придумать ему тысячу казней, лишь бы заглушить непонятное чувство, которое вдруг разрастается так, что трудно становится дышать.
И Ай разжигает в памяти самые отвратительные воспоминания об ахо в больничном крыле и подбрасывает дровишек бесконечными образами Принца: вот его разлетающиеся волосы, вот его плутовская улыбка, поворот головы. Пусть сгорит и исчезнет.
А за несколько коридоров от нее, Принц яростно топает ногами, пытаясь сбить пламя, которое вдруг взвилось от кроссовок. Он осматривает пол, наверняка, наступил на бомбочку-горючку, подброшенную хулиганом. Но ни рваных ошметок, ни горького дыма от смеси, только воняет плавленой резиной подошв.
***
Это была трава, океан травы. Ее шевелящиеся голубоватые руки. Они качались, тянулись. Обвивали ноги, обнимали плечи.
Генассия просыпается, хватая ртом гнилой воздух. В его каморке-спальне нет окон, но к утру дождевая сырость просачивается сквозь стены, воздух тяжелеет, нависает над лицом вонючим пологом. Генассия машет руками, разгоняя застоявшийся воздух. Плохой сон. Противный. Во рту тот же гнилой привкус. Он сглатывает. Живот вздрагивает, подбирается. И тошнота подкатывает к горлу.
Он умывается. Вода течет мутными потоками меж пальцев – профессор смывает с лица сон. Он и не помнит, чтобы после изменения, ему снились приятные сны. Потому он взял за правило, после ужасных видений умываться мылом, и не каким-нибудь душистым, цветочным, а грубым, коричневым на маслах и едкой щелочи. Кожа чешется, сухая маска морщин стягивает лицо к вискам. Генассия самозабвенно трет и трет лицо жестким полотенцем, не забывая массировать шрам в верхней части лба – здесь больнее всего. Шрам – источник его злых видений.
Профессор Генассия не назвал бы свои сны кошмарами. В кошмарах предполагается сюжет или чудовища, погоня или схватка. Или ты входишь в пустой дом, который дрожит половицами, предвкушая добычу. Ничего этого доктор не видит во снах. Он видит размытые пятна, которые одновременно все и ничего конкретного. Весь сон он пытается их разгадать, но они ускользают и принимают еще более зловещий смысл. И это ощущение надвигающейся беды, терзает профессора Генассию каждую ночь. Пытку нельзя вытерпеть долго, потому он и спит так мало.
Но в этот раз была трава. Он запомнил. Океан травы.
Хвала науке, схемы армирования теперь таковы, что измененные не видят снов. Хоть от кошмаров они смогли избавить детей. Жаль, что его схему уже не исправить.
Отняв полотенце от лица, он слышит стрекот коптера, подлетающего к башне. Он не может его слышать через толщу стен, в его покоях нет окон. Он живет в самой сердцевине больничного крыла – кругом каменная кладка, не пропускающая шумы.
Но, моргнув, Генассия, видит пораненный коптер, с вмятиной на двери, он завис и готовится к посадке. А это означает – измененный, охотник, транслирует ему прибытие. Сколько раз Генассия просил их этого не делать! Шрам на лбу гневно наливается багрянцем и пульсирует. Но нет, каждый, вернувшийся с охоты, с гордостью, на подлете, демонстрирует ему свои подвиги.
Этот коптер не из ближайших Замков. Значит, что-то пошло не так, и они пытаются втюхать свой неликвидный товар не ему первому. Никто не захотел брать, вот они сюда и прилетели. Будто его Замок – мусоросборник гнилья!
Генассия раздраженно швыряет полотенце в умывальную чашу:
– Проклятые шавки!
Насаживает пенсне на нос, да так крепко, что причиняет самому себе боль.
Он не выходит на башню. Он ждет у подножия ржавой лестницы. Внутренним взором он видит, как из коптера достают носилки с привязанным к ним мешком человеческой формы. И первая его реакция – гнев. Приволокли раненого! А он возись с этим отребьем. Пусть бы подыхал в лесу. Расходный материал. Но потом видит золото. Оно течет и застывает каплями. Генассия настраивается на деловой лад. Может, и не такой уж неликвид. Золотая статуя – это третий по значимости трофей, который могут добыть охотники. Целая, не растоптанная – что само по себе чудо.
***
Статуя целая, но дрянная. Вопреки инструкциям, охотник не замер под золотом, а пытался переменить позу. И теперь его тело походит на винт с глубокой резьбой. А значит и в глубине он застыл или еще только застывает складками. Но его уже не распрямить.