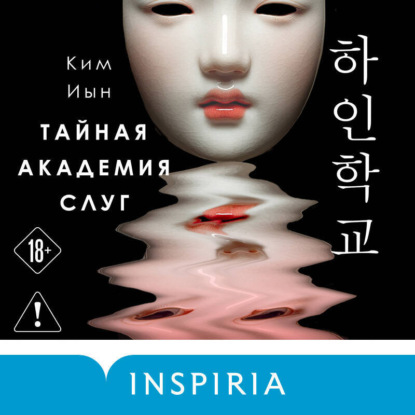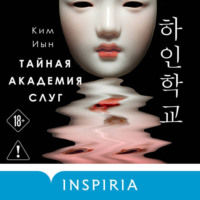Полная версия
Тайная академия слуг
Прошел месяц. Соджон часто удавалось поесть, но иногда приходилось и голодать. По ночам вместо звуков сна или храпа тишину общежития нарушали звуки перелистываемых страниц учебников. Слова, висящие на стене перед столом, отпечатались на подкорке. Но ты не гений – и, зная это, ты смеешь думать о сне?
Соджон молча слушала все курсы. Она сосредоточила все силы на том, чтобы слова преподавателей откладывались у нее в голове. Девушка изначально понимала, что у нее нет другого выбора, кроме как жить здесь в соответствии с местными порядками, но не представляла, насколько они суровы.
– Ну вот, теперь мы знаем, как следует проводить занятия, – смеялись преподаватели над изможденными учениками. – Смотри-ка, поморишь голодом – и вот они уже нас слушают… В начале каждого курса так: только применив подобные меры, удается всех образумить, а по-хорошему никто не слушается.
После занятий наступало время ужина, теста – еды, если ты сдал, или голода, если провалился, – и так заканчивался день. Когда Соджон оставалась без еды и возвращалась голодной в комнату, ее ноги были будто закованы в кандалы, а позвоночник ломило, стоило ей лечь на кровать. Тогда она сворачивалась в клубок и плакала. Если ей казалось, что ее всхлипы становились слишком громкими, она еще больше сжималась, как бы пытаясь уменьшить и свое тело, и все свое существо. С каждым всхлипом, вырывавшимся из ее горла, согнутый позвоночник поднимался и опускался.
Казалось, миру внезапно пришел конец. Как такое могло случиться с ней – она же добросовестно и честно жила, а тут… обвинение в хищении средств и убийстве! Но что было бы, не приди она в Академию? Толпа глазеющих на нее зевак, звуки сирены полицейской машины, полицейские, хватающие ее, руки в наручниках, а в конце – тюрьма… В тюрьме весь мир погружается во тьму и отдаляется, а отчаяние сменяется бессилием. Проснувшись среди ночи в тюремной камере, снова вряд ли заснешь. И тогда, сжавшись в комок, упершись в холодную стену, горько заплачешь. И тело будет пронизывать бессилие, поднимаясь от пят до макушки. Однажды ты поймешь, что и на гнев у тебя больше нет сил, и спрячешь его глубоко под пожелтевшей кожей…
Соджон покачала головой. Все-таки у нее и правда не было другого выбора, кроме как прийти сюда.
Ей все еще было любопытно, что же произошло за это время во внешнем мире. Может, она объявлена в розыск по всей стране… Но ведь Ли Джинук сказал, что со всем разберется. Как он собирался это сделать? Что ж, теперь она не могла этого узнать. У нее забрали телефон – с Джинуком не связаться.
Что ж теперь делать-то? Нужно было сосредоточиться на этом. «Учебный план рассчитан на один год. И этого места по официальной версии не существует, а значит, в течение года мы отгорожены от всего, что происходит снаружи. Поэтому было бы опрометчиво пытаться сбежать отсюда». Лучше уж потихоньку все как следует обдумать, находясь здесь. Ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы, как тех трех учениц, ее утащили отсюда в неизвестном направлении и она исчезла бы без следа. Да, сейчас лучше думать только об этом: как остаться в живых. Остальное – потом.
Вероятно, Соджон была не единственной, кого посещали подобные мысли. Со временем взгляды учеников менялись. Когда только пришли в Академию, они чувствовали облегчение – наконец-то в безопасности! Да и помещения Академии были такими шикарными, что приносили только радостные мысли и впечатления. Но теперь все изменилось. Теперь все осознавали, что это место – безрадостная арена, на которой разворачивается их борьба за выживание. Голод, которым их дрессировали, быстро дал это понять.
В тот день Соджон возвращалась в комнату, оставшись без еды. Ее тело было как губка, набравшая воды, – тяжелое и вздувшееся от голода. Пошатываясь и не видя ничего перед собой, она столкнулась с тележкой, которую катила перед собой уборщица, Ким Бокхи.
– Ой, девушка, вы в порядке? – спросила та, подхватив Соджон. От столкновения швабра с тележки упала на пол.
– Д-да… – Соджон на автомате подхватила упавшую швабру. Протягивая ее уборщице, она взглянула в ее лицо и вскрикнула от неожиданности. – Ой, это вы?!
– Что?.. – Ким Бокхи внимательно посмотрела на нее.
– А-а, простите… Я перепутала вас с одной знакомой.
От голода, видимо, уже мерещится всякое…
– Всё в порядке. Наверное, кто-то из ваших близких похож на меня?
– Да… Женщина, которая очень хорошо ко мне относилась; заботилась, как мать…
На мгновение на лице Соджон промелькнули тоска и печаль. Ким Бокхи с сочувствием посмотрела на нее, и от этого взгляда девушка разрыдалась. Удивившись, уборщица взяла Хан Соджон за руку.
– Иди за мной, только тихо! – Толкая тележку, она пошла в конец коридора к помещениям, где размещались кладовые.
Хан Соджон оглянулась, чтобы убедиться, что за ней никто не следит, и вслед за Ким Бохи вошла в комнату отдыха персонала. На полу было расстелено одеяло с подогревом, у стены стояла вешалка, на ней – пара курток. Кроме этого, в комнате был маленький телевизор, и всё. Ким Бокхи убедилась, что снаружи никого нет, и закрыла дверь. После этого она достала из кармана пакетик молока и протянула Соджон.
– На вот, выпей.
Взяв из ее рук этот пакетик, Соджон снова заплакала. Не от голода. От усталости. И тело, и душа ее были измождены. Нет, и не от усталости. От одиночества. В общем, она и сама не знала почему и на любую причину говорила себе: «Нет, не в этом дело!»
Соджон удивилась сама себе; это было ей несвойственно – расплакаться навзрыд перед совершенно незнакомым человеком. Но слезы не останавливались. Если подумать, после инцидента с Ким Хёнсу она плакала перед кем-то впервые – и это несмотря на все то, что с ней произошло за это время. Все из-за этого маленького жеста доброты со стороны Ким Бокхи, которая заставила вспомнить ее о близком человеке…
Проплакав некоторое время и успокоившись, Соджон затуманенным взглядом посмотрела на швабру перед собой.
– Тетушка…
– Что такое?
– Можно… можно я иногда буду приходить вам помогать? Я хорошо убираюсь!
Это была правда. Она отлично орудовала шваброй. Ким Бокхи на это ничего не ответила и напомнила про молоко – мол, выпей сначала. Соджон улыбнулась заплаканным лицом и выпила молоко. Она вспомнила о том, как занималась уборкой. А вместе с этим вспомнила и своего отца, Хан Донсика…
В детстве они с отцом переезжали с места на место, подолгу нигде не задерживаясь – максимум год, полгода, а то и вовсе три месяца. После поступления в начальную школу за четыре года они переехали шесть раз; случалось и такое, что Соджон сменяла одну школу на другую, не успев проучиться и дня.
Они никогда не знали, когда им придется снова срываться с только обжитого места, и потому никто не сдал бы им даже самую крохотную комнатку в полуподвальном помещении. Сначала подолгу останавливались в мотелях, но примерно через два года задержались в небольшой гостинице.
Хан Донсик оставлял Соджон в гостинице, а сам все время гонялся за некими людьми, которых ему якобы во что бы ни стало нужно разыскать и которые «разрушили его жизнь».
Хан Соджон проводила дни, сидя в комнате гостиницы с пожелтевшими обоями. Откуда-то доносились и въедались в мозг звуки капающей воды и шуршание тараканов и прочих насекомых, бегающих по стенам. Сквозь щели в комнату проникал холодный ветер. Маленькая Соджон сжималась в клубочек и тихонько плакала.
Постепенно она привыкла к такой жизни. Все время вертелась у стойки в лобби гостиницы, и, стоило только появиться уборщице, сообразительная девочка выхватывала у нее швабру и бежала мыть полы. Хозяева гостиницы не могли не заметить ее старания, да и жалко ее было, – и они усаживали ее за стол со всеми, когда наступало время обеда. Это, конечно, было лучше, чем давиться в одиночестве хлебом.
Тетушку она встретила в очередной гостинице на побережье в гавани Мукхо; обветшалое здание находилось на крутом склоне, и держала эту гостиницу женщина среднего возраста. Там они прожили около трех лет.
Переулок вел ввысь, к холму с маяком. Если сесть на краю холма, у обрыва, можно было увидеть море, простиравшееся насколько хватало глаз и, казалось, бесконечное. Оно всегда отчего-то было беспокойным – на поверхности играли волны, а над ней кружили чайки, тревожно крича. В туманные утра волны, набегая на берег, как будто заполняли собой все пустые пространства, оставшиеся после ухода ночной тьмы. Зимой на море падал снег, словно укрывая все тревоги.
Там Соджон жилось хорошо. Ее, старательную девчонку, всегда со рвением хватавшую швабру, тетушка – хозяйка гостиницы считала за дочь. Когда Хан Донсик, ходивший на судне, ловившем кальмаров, возвращался из очередного плавания и приносил домой связку моллюсков, тетушка готовила ей наваристый суп.
Бывало, что его плавания длились неделями. Как он говорил, вдали от побережья имелось место, которое кишело кальмарами. Ночью, включив сигнальный фонарь на судне, можно было увидеть, как они буквально роятся там.
Однажды отец попал в шторм. Высокие волны обрушились на судно, и, казалось, море вот-вот поглотит его. Так он рассказывал Соджон, вернувшись после недельного отсутствия, сидя перед лавкой «Счастье» чуть ниже гостиницы по склону. На столе перед ними стояла бутылка соджу, консервная банка с тунцом и лакомства для Соджон – сладкий хлеб и чипсы.
– Знаешь, что делать, если на тебя обрушивается волна величиной с дом? – спросил у дочери Хан Донсик, наливая себе соджу в опустевший стакан.
– Бежать от нее нужно! – Хан Соджон была счастлива, что впервые за долгое время ей выпал шанс поговорить с отцом, и от этого старательно ему отвечала.
– А вот и нет!
– А что же тогда делать?
– Во время шторма, когда набегают огромные волны, нельзя пытаться уклониться от них. Нужно встретить их лицом к лицу. Тогда судно не перевернется… со стороны. – Он посмотрел куда-то вдаль с тоскливым выражением лица, а затем обернулся к дочери: – Поняла? Какие бы волны ни нахлынули на тебя в жизни, от них нельзя убегать. Ты должна встречать их.
– Поняла!
Тогда Соджон была счастлива. Слышался плеск волн, как будто те были совсем рядом, и пена вот-вот могла бы достичь ее ног…
* * *Я убила человека, который был мне и братом, и отцом.
Это правда.
У меня было два отца – биологический и законный, который на самом деле приходился мне дедом. Вот так одной строчкой можно описать мое детство.
Я родилась в Пусане в далеко не бедной семье. В доме, где мы жили, был разбит просторный сад с прудом, где резвились карпы. В гостиной были высокие потолки – если в ней закричать, то крик разносился по всему дому. Иногда, когда мне доставалось от родителей, я могла обидеться и так спрятаться в этом доме, что меня потом целый день могли искать.
Но на самом-то деле не так уж часто мне от них и доставалось. Наоборот, они меня баловали. Я осознала, что родители намного старше родителей моих сверстников, только когда пошла в детский сад.
Почему только у моих родителей так много морщин на лицах? Иногда я стеснялась этого, но, с другой стороны, мне было приятно от того, как к ним относились другие люди – перед отцом всегда склоняли головы и уважительно к нему относились.
От родителей всегда пахло рыбой. А как иначе – ведь они управляли компанией, занимавшейся поставками морепродуктов, да еще и одной из самых крупных в Пусане, портовом городе… Люди вокруг восхищались ими: и у отца, и у матери в молодости не было ни кола ни двора – сироты, бежавшие в Пусан во время Корейской войны[14], продавали рыбу на рынке Чагальчи, чтобы прокормить себя, и на этом построили такой бизнес – в общем, всего добились сами…
И эту историю они обязательно рассказывали каждому, кто приходил к нам в гости.
«Вы себе такое даже вообразить не сможете. Вокруг все взрывается, порт переполнен людьми, и все пытаются забраться на малюсенькую лодочку. Сколько людей погибло из тех, кто пытался забраться в нее по канатам, оступился и упал в воду! Вообще-то судно было грузовым и подразумевало перевозку максимум 60 человек, но, говорят, капитан выбросил весь груз за борт, чтоб поместилось больше людей – и поместилось аж четырнадцать тысяч человек, в двести с лишним раз больше его вместимости. Впоследствии этот корабль был признан Книгой рекордов Гиннесса как «самый маленький корабль, спасший больше всего жизней».
Родители были родом из города Хамхын провинции Хамгендо; ныне это территория Северной Кореи. Однажды во время войны мать возвращалась домой из школы, когда американские солдаты заняли мост Мансе, единственный мост через реку Сончхон, и перекрыли движение. На дороге было полно людей с поклажей, тащивших за собой детей. Все это, как ей сказали, из-за китайских солдат-добровольцев – если они займут город, то не миновать смерти.
Испугавшаяся мама со всех ног побежала домой. А родители сами выбежали из дома ей навстречу, и вместе они двинулись в сторону порта. В порту яблоку было негде упасть, толпа не давала продвинуться вперед. Кто-то, не устояв на ногах, падал, и то тут, то там доносились истошные крики задавленных. Вокруг царил хаос. И тут позади послышался громкий звук клаксона – американский военный автомобиль. Родители мамы подбежали к нему, преградив путь, и поспешно сунули в него свою дочь.
– Мама! Папа!
Американские солдаты, которые сначала пытались было от них отмахнуться, посмотрев на беспорядок и хаос, творившийся в порту, оставили маму в машине. Она плакала и кричала, но ее увозили все дальше и дальше от родителей. Она все плакала, а меж тем машина подъехала к судну, и солдаты посадили ее в него.
«Тогда я и подумать не могла, что больше никогда не увижу своих родителей…»
Каждый раз, дойдя до этого момента в своем повествовании, мама вытирала рукавом набежавшие слезы.
С моим отцом она впервые встретилась на борту корабля. Сидела, дрожа и плача от страха и неизвестности на палубе судна, которое везло ее из порта Хамхына куда-то далеко на юг, а рядом сидел отец. Потом они жили в трущобах и продавали рыбу на рынке и с тех пор никогда не спали больше четырех часов в сутки.
Родители были богаты, но на нашем столе никогда не появлялось больше трех блюд. Они носили носки, пока те не изнашивались до дыр, и тогда мама штопала их, чтобы снова носить. Они ездили на изящной большой черной машине. Из машины всегда выходил человек в костюме с иголочки и открывал заднюю дверь, откуда выходил отец в поношенной одежде. И именно этот человек в, можно сказать, обносках был владельцем этой дорогой машины. Мои родители были упрямы и эгоистичны. Они были скупы и старались никогда не потратить лишнего. Чтобы сэкономить, мама сама раздавала рис и домашнее кимчхи сотрудникам компании. Они никогда не посещали ни свадьбы, ни похороны и старались не заводить друзей – чтобы у них было некому занимать деньги. Но ко мне их отношение было совсем другим – они всегда покупали мне всё по первому капризу, на мне всегда была новая одежда, а на столе передо мной – тарелка с мясом. Тогда-то я думала, что меня балуют как позднего ребенка.
У меня был старший брат – простофиля. Все, что он умел в жизни, – это проматывать родительские деньги. Он был известен на весь Пусан как человек, которого развести на деньги можно было по щелчку пальцев. Еще до моего рождения брат завел роман с бухгалтершей компании, и разгневанные родители уволили сотрудницу, а его женили на дочери главы прокуратуры Пусана. Правда, та развелась с братом через год. Он уже не жил с нами, но продолжал все так же пускать деньги на ветер. Когда в стране разразился строительный бум, даже пытался инвестировать в девелоперские проекты в Пусане. «Вы еще увидите… Как возведу в Пусане огромные здания – будут новые достопримечательности. А то от запаха вашей рабы уже тошно».
Родители со слезами на глазах умоляли его оставить свои проекты, но он был непоколебим. К тому времени отец почти перестал работать из-за болезни. Он был слишком слаб, чтобы выгнать сына из компании и самому взять на себя управление ею. Уже позже кто-то сказал мне, что мой брат что-то украл у родителей.
Некоторое время он строил из себя занятого – ходил по Пусану с кипой документов и в деловом костюме. А однажды вдруг вернулся домой, встал на колени перед родителями и взмолился:
– Не волнуйтесь, я доберусь до этого ублюдка, найду его даже в аду! Только бы мне его поймать – и тогда все уладится. Дайте мне немного времени, прошу!
Наша семья была разрушена. Я не знаю всех подробностей, ведь тогда была еще ребенком. Но отчетливо помню, что родители так никогда и не оправились от шока – по вине сына-неудачника они в один момент потеряли все то, чего добились непосильным трудом. Первым умер от сердечного приступа отец, а вскоре за ним последовала и мать, отказавшаяся от всякой еды и только плакавшая все дни напролет.
«Это она?» Такой вопрос я слышала на похоронах мамы. Люди показывали на меня пальцем и шептались между собой. И тогда я обо всем узнала. О том, что бухгалтерша, у которой с братом был роман, родила от него ребенка. И о том, что мои родители записали этого ребенка как своего, чтобы у биологического отца не было никаких проблем и он мог спокойно обручиться с дочерью прокурора. Получается, я была дочерью того, кого считала братом. И этот человек не только растратил все деньги нашей семьи, но еще и задолжал огромную сумму в несколько сотен миллионов вон другим людям…
Тогда он, мой брат – то есть отец – забрал меня, свою сестру – то есть дочь, – и спешно покинул город. Его финансовый провал был известен всему Пусану – куда бы он ни пошел, все шептались и тыкали в него пальцами. Оставаться здесь больше было невыносимо. К тому же он оказался должником, причем на очень крупную сумму. Конечно, платить ему было нечем.
У него была и еще одна причина уехать. Ему нужно было поймать того самого человека, о котором он говорил родителям. Того, который обманул его. Который разрушил семью, из-за чего в итоге умерли родители, а он остался с маленькой дочкой на руках. Который разрушил всю его жизнь. О, что бы он с ним сделал, с этим гадом, поймай только!..
Так и начались наши скитания. Стоило только отцу – моему бывшему брату – получить какие-то зацепки, что-то услышать об этом человеке, как мы срывались с места, мчась по его следу. Но все было тщетно. Отец начал думать, что этот человек скрылся за границей. Конечно, у него же достаточно денег, чтобы спокойно отсиживаться на одном из островов в южной части Тихого океана, греться в тропическом воздухе, в окружении женщин с темной кожей и длинными ресницами; он и не вспоминает о несчастном, которого растоптал…
Эта мысль не была плодом умозаключений. Она явилась результатом обыкновенной усталости и отчаяния от тщетных поисков, от необходимости как-то выживать день за днем. Если решить, что цели своими усилиями ну никак нельзя добиться, то начинает казаться, что задумка была нереальной с самого начала. И это утешает, пусть и немного.
Поэтому и то, что тогда мы остановились в Мукхо, произошло не из-за этого человека, а попросту из-за наших жизненных обстоятельств. Для маленькой девочки, которой я тогда была, эти три года были самым счастливым временем, проведенным с отцом. Хорошо было бы, поженись он с тетушкой – тогда нам не пришлось бы больше мотаться по всей стране, тогда мы жили бы в доме на холме, и я каждый день плавала бы в волнах моря с друзьями, с которыми не нужно было вновь расставаться. Это было все, о чем я тогда мечтала…
Даже сейчас, много лет спустя, спроси у меня о самом счастливом времени в жизни, я без колебаний назову Мукхо. И тихо вздохну. Как хорошо было бы, останься мы там…
Но это было невозможно. Не только отец гонялся за тем человеком – за отцом тоже гонялись. И когда в Мукхо на наш след напали в очередной раз, отец схватил меня и сбежал под покровом тьмы. На этот раз мы скрылись в месте далеко-далеко от моря – на окраине города Вонджу. Там он устроился работать на птицефабрику. Поставил на себе крест и потерял всякую волю к жизни. Бежал от реальности, каждый день довольствуясь чем бог пошлет, перебиваясь непостоянными заработками. Алкоголик-неудачник – вот кем он стал.
Пэ Чхильгу, работавший с отцом на птицефабрике, был немного умственно отсталым. Он был тощим, так что лопатки торчали, а его лицо выглядело желтушным. Постоянно хихикал, обнажая свои гнилые зубы, и ругал отца за лень. Тот, не привыкший работать руками, подчинялся даже дурачку Чхильгу, изображавшему из себя главного и раздававшему указания, когда начальника не было рядом.
– Э-э-й, я сказал тебе убирать куриное дерьмо, а ты чего тут разлегся, а? Кого пытаешься обмануть? – Пэ Чхильгу пнул отца, дремавшего в углу птичника среди сложенных мешков с кормом.
– Нет, нет, нет, я не такой человек…
Отец быстро замахал руками, не открывая глаз, словно пытаясь отмахнуться от кого-то во сне. Каждый раз ему снился один и тот же кошмар. Повсюду газеты, а в них статьи с убийственными характеристиками: неудачник – наследник бизнеса, неблагодарный сын, принесший внебрачную дочь, о которой сам же и забыл, отброс, спустивший все деньги на азартные игры, да еще и употребляет… Газеты налетали на него со всех сторон, раня его своими острыми краями. Заслоняя от них лицо во сне, он извивался на полу птичника.
– А какой ты человек? – Чхильгу разбудил отца, потряся его за плечи. – Давай вставай, убирай помет и складывай яйца в коробки. Думаешь, тебе заплатят за безделье? Хочешь, я скажу начальнику и он тебе зарплату урежет?
Отец поднялся и принялся за работу. Курицы, запертые в маленьком и вонючем помещении птичника, истошно верещали. Чхильгу разбил только что снесенное яйцо и вылил его содержимое себе в рот, залив соджу. Отец же молча убирал лопатой куриной помет и раскладывал только снесенные, еще теплые яйца по коробкам.
От отца сильно несло спиртом. По дороге домой он на уже нетвердых ногах сворачивал в лавку, покупал бутылку соджу и шел с ней домой по глинистой дороге. Несколько лет – по одному и тому же маршруту. Дочь уже пошла во второй класс старшей школы, а его ежедневный ритуал оставался неизменным…
Как-то раз я снова увидела, как на меня показывают пальцем, перешептываясь, две старушки на завалинке перед лавкой.
– Это, что ли, его дочь?
И я узнала, что отец купил соджу в долг.
– Ага, его дочь, – Хан Донсика, который работает на птицефабрике в окрестностях Донгу… Говорят, раньше был страшным богатеем. А дочери приходится терпеть все это из-за его пьянства…
Я втянула голову в плечи, попытавшись стать незаметной, проходя мимо лавки, чтобы старушки ненароком не заговорили со мной. Манера общения в старых кварталах всегда грубая. Это не диалог, а монолог, слова и оскорбления, направленные на тебя. Кто распространяет слухи? В таких местах первоисточник никогда не известен. Но люди разносят слухи с такой уверенностью, будто сами были свидетелями тех событий. И это публичное порицание невыносимо, оно как словесная порка. Вероятно, источником слухов была старушка из соседней забегаловки.
Слухи безжалостны: разносятся ли они шепотом, громко ли выкрикиваются – итог всегда один, охват одинаков. Когда живешь в маленьком узком переулке, особенно если живешь там достаточно долго, мысль о том, чтобы познакомиться с кем-то, а тем более, не дай бог, завязать длительные отношения, не может не приводить в ужас.
Остановившись у порога, я окинула взглядом старый обветшалый дом. Одноэтажное кирпичное здание с плоской крышей, едва возвышающейся над уровнем земли. Дом, казалось, с каждым днем становился все хуже и хуже, выплевывая ошметки краски и словно говоря: «Помирать, так вместе – я рухну, и ты сгинешь вместе со мной».
Я толкнула старые скрипучие железные ворота. Нам было отведено три комнаты в полуподвальном помещении – еще ничего.
К счастью, отца не было дома. Я переоделась и уселась, согнувшись в три погибели, перед низким столом. Над ним была приклеена надпись – «До экзамена 355 дней». Я обязательно сдам все экзамены, выпущусь из школы и поступлю в университет. С этой решимостью я раскрыла учебник.
– Господин Донсик, вы тут?
Черт! Я невольно нахмурилась. Они снова пришли… Я встала и открыла входную дверь.
– Отец дома?
Пак Чонвон. Коллектор. Придя впервые, он протянул удостоверение личности и документы, удостоверяющие наличие долга и его сумму, – мол, я официальный взыскатель задолженностей.
– Нет его.
– Ну тогда я его тут подожду, ага?
На нем был довольно выношенный до глянцевитости черный костюм с помятой дешевой рубашкой под ним, туфли с потертыми каблуками – конечно, нелегкая это работа, целыми днями обходить должников! Лицо его выглядело усталым; ну правильно, каждый день выслушивать мольбы должников и запугивать их – тоже нелегкий эмоциональный труд…
– Да пожалуйста.
Я не пригласила его пройти внутрь и снова села за стол, но через пару минут снова поднялась и подошла к нему.
– Я хотела у вас кое-что спросить.