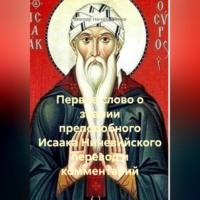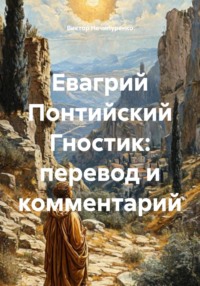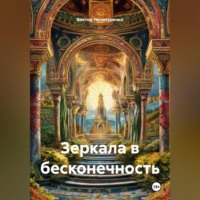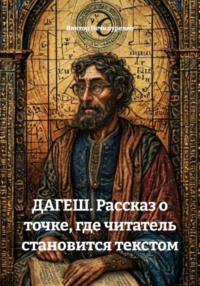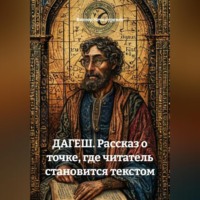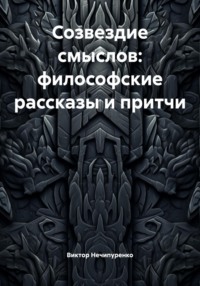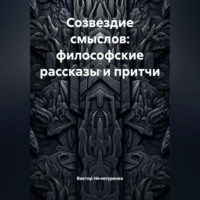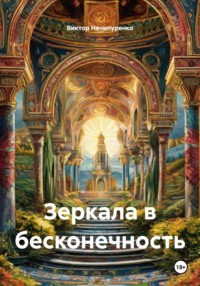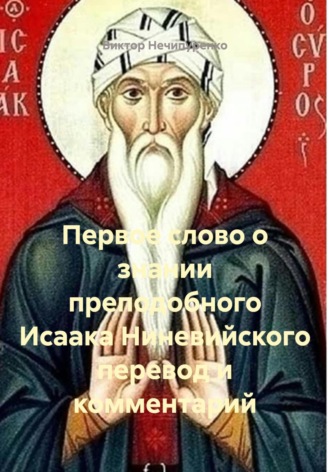
Полная версия
Первое слово о знании преподобного Исаака Ниневийского перевод и комментарий
"Смиряются до бездны уничижения", – истинное познание парадоксальным образом ведет не к возвышению, но к предельному смирению. Чем больше человек познает Бога, тем яснее видит собственное ничтожество. Это "бездна" (ἄβυσσος) не отчаяния, но благодатного самопознания, где человек обретает свое истинное место перед лицом Бесконечного.
"С внутренним светом принимают в себя убеждение, дарующее радость", – здесь описывается положительный плод истинного познания. Внутренний свет – это не метафора, но реальный опыт просвещения ума божественной благодатью. В исихастской традиции это связано с видением нетварного света.
Ссылка на Послание к Колоссянам (2:2) – "дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа" – помещает учение Исаака в христологический контекст. Истинное знание неотделимо от любви и находит свою полноту во Христе.
Это учение перекликается с платоновским различением между истинными философами и софистами. Но если у Платона речь идет о правильном методе диалектики, то у Исаака – о духовном состоянии познающего. Неоплатоники учили о необходимости очищения для восхождения к Единому, но Исаак идет дальше: само познание есть дар свыше, а не результат человеческого восхождения.
26. Похищают знание те, кто устремляется к нему без [духовного] делания, то есть вместо истины они похищают лишь её подобие. Истинное же знание само обитает в движениях тех, кто в своей жизни стал распятым (ср. Гал. 6:14) и вдохнул жизнь из самой смерти (ср. Пс. 118:131).
В этой главе Исаак углубляет и конкретизирует свое учение о "похищении знания", раскрывая как механизм этого духовного преступления, так и путь к подлинному знанию через крестный опыт.
"Похищают знание те, кто устремляется к нему без духовного делания", – здесь Исаак указывает на фундаментальную ошибку: попытку получить духовное знание чисто интеллектуальным путем, минуя аскетический подвиг. "Духовное делание" (πρᾶξις) в святоотеческой традиции означает не просто внешние подвиги, но целостное преображение жизни через молитву, пост, бдение, милосердие.
"Вместо истины они похищают лишь её подобие", – это ключевое различение. Подобие истины может быть очень убедительным, оно может включать правильные формулировки, цитаты из Писания, богословские концепции. Но это остается мертвой буквой, интеллектуальной схемой, лишенной преображающей силы. Как фотография человека не есть сам человек, так богословское знание без опыта не есть богопознание.
Это напоминает предупреждение апостола Павла о тех, кто имеет "вид благочестия, силы же его отрекшихся" (2 Тим. 3:5). Евагрий Понтийский учил, что демоны тоже "богословствуют", но их знание не спасает их, ибо лишено любви и смирения.
"Истинное же знание само обитает в движениях тех, кто в своей жизни стал распятым", – здесь происходит радикальный переворот перспективы. Не человек овладевает знанием, но знание "обитает" в нем, делает его своим жилищем. Но это возможно только для тех, кто "стал распятым".
Ссылка на Галатам 6:14 ("для меня мир распят, и я для мира") раскрывает смысл этого распятия. Это не физическое мученичество, но духовное состояние полного отречения от мирских ценностей, от самости, от автономии падшего разума. Распятый человек уже не живет для себя, его эго умерло, и потому в нем может жить и действовать божественное знание.
"Вдохнул жизнь из самой смерти", – этот поразительный образ указывает на парадоксальную природу духовной жизни. Ссылка на Псалом 118:131 ("Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду") в контексте Исаака получает новое измерение. Открытые уста – это образ полной открытости и восприимчивости, но эта открытость достигается через духовную смерть.
Здесь прослеживается глубокая связь с пасхальной тайной. Как Христос через смерть победил смерть и даровал жизнь, так и христианин через умирание для мира и для себя обретает истинную жизнь и истинное знание. Это не метафора, но описание реального духовного опыта.
Важно, что знание "обитает в движениях" подвижника. Это указывает на динамический, живой характер духовного познания. Оно не статично, не заключено в формулы, но постоянно движется, действует, преображает. Каждое движение души распятого становится носителем божественного знания.
Максим Исповедник развивает эту мысль, говоря о том, что в святых Сам Христос живет и действует. Их знание – это не их собственное достижение, но присутствие и действие Христа в них. "Уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:20), – это относится и к знанию.
Исаак указывает конкретный путь к истинному знанию:
1. Отказ от попыток "схватить" знание интеллектуальным усилием.
2. Вступление на путь духовного делания – аскетического подвига.
3. Принятие креста – полное самоотречение.
4. Прохождение через духовную смерть.
5. Открытость для вселения истинного знания.
Это путь не для избранных мистиков, но для каждого христианина, желающего не просто знать о Боге, но познать Бога. Без этого крестного пути всякое богословие остается "подобием истины" – правильным по форме, но мертвым по сути.
27. Соответствие богопознания и образа жизни
27. Сообразно изменению образа жизни, меняются в движениях сынов человеческих и мысли о свойствах Божиих. Когда они опускаются в пороки, то помышляют о Владыке всего нечто суровое. И это происходит по благодати, которая умеет давать каждой душе пищу, ей подобающую. Не пристала глупому пышная жизнь, как говорит Соломон (Притч. 19:10), и не подобает рабу властвовать над великим. Те же, кто возвышается до твердости в [добром] житии, обретут свойства Божии в сокровищницах. Никакой иноплеменник и необрезанный, – написано, – не будет есть тайны Пасхи (ср. Исх. 12:43, 48).
Это размышление о том, как духовное состояние человека влияет на его восприятие Бога. Это типичный для Исаака пример "духовной психологии": он показывает, как благодать Божия адаптируется к уровню человека, чтобы вести его к спасению.
«Сообразно изменению образа жизни, меняются в движениях сынов человеческих и мысли о свойствах Божиих. Когда они опускаются в пороки, то помышляют о Владыке всего нечто суровое».
Исаак подчёркивает, что наше понимание Бога не статично – оно зависит от нашего "образа жизни" (греч. τροπος, сирийск. дукхара – буквально "способ бытия" или "нрав"). Если человек погружается в пороки (грехи, страсти, мирскую суету), его мысли о Боге искажаются: Бог кажется ему "суровым" (жестоким, карающим, недоступным). Это не значит, что Бог на самом деле суров – это проекция греховного состояния души. В аскетической традиции (у Исаака, как и у других Отцов Церкви, например, у Григория Нисского или Максима Исповедника) грех "затмевает" ум, делая его неспособным видеть Бога в Его истинной благости и милосердии.
Здесь Исаак предупреждает против антропоморфизма – приписывания Богу человеческих черт на основе своего опыта. Это перекликается с идеей апофатического богословия (Бог непознаваем в сущности, но открывается через опыт). Если человек в грехе, он видит Бога как "судью", а не как "Отца" – это защитный механизм, побуждающий к покаянию.
«И это происходит по благодати, которая умеет давать каждой душе пищу, ей подобающую».
Даже такое "суровое" восприятие Бога – не случайность, а действие благодати (Божией милости). Благодать не навязывает истину насильно, а даёт "пищу" (духовное питание), подходящую для текущего состояния души. Для грешника "суровый" образ Бога может стать "лекарством" – страх перед наказанием побуждает к исправлению (ср. Пс. 110:10: "Начало премудрости – страх Господень"). Это как педагогический приём: Бог "приспосабливается" к слабости человека, чтобы постепенно вести его вверх.
Исаак здесь развивает идею "икономии" (греч. oikonomia – Божие домостроительство), где Бог действует не по строгой справедливости, а по милосердию, учитывая уровень человека. Это напоминает слова апостола Павла: "Всё мне позволительно, но не всё полезно" (1 Кор. 6:12). Благодать – не универсальный "рецепт", а персонализированный дар, как у хорошего врача, дающего лекарство по мере болезни.
«Не пристала глупому пышная жизнь, как говорит Соломон (Притч. 19:10), и не подобает рабу властвовать над великим».
Исаак цитирует Книгу Притчей Соломоновых (Притч. 19:10: "Не прилично глупому жить в роскоши, тем паче рабу господствовать над князьями"). Это метафора: "глупый" (невежда в духовном смысле) не готов к "пышной жизни" (высоким духовным дарам), как раб не готов властвовать над "великим" (глубокими тайнами Бога). Если дать неподготовленной душе "сокровища" (истинное знание Бога), это может навредить – вызвать гордость или отчаяние.
Это подчёркивает принцип постепенности в духовном росте. В монашеской традиции (у Исаака и, например, у Иоанна Лествичника) подвижник должен сначала очиститься от страстей, прежде чем вкушать "высшие" дары. Иначе это как дать ребёнку взрослую пищу – он не переварит.
«Те же, кто возвышается до твердости в [добром] житии, обретут свойства Божии в сокровищницах».
Напротив, те, кто достигает "твердости" (устойчивости) в добродетельной жизни (через аскезу, молитву, покаяние), открывают "сокровищницы" – истинные "свойства" (атрибуты) Бога: Его любовь, милосердие, благость. Это не интеллектуальное знание, а опытное – "сокровищницы" подразумевают внутренние глубины сердца, где Бог обитает (ср. Мф. 6:21: "Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше").
Исаак учит о "обожении" (греч. theosis) – уподоблении Богу через добродетели. Это эхо слов Христа: "Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят" (Мф. 5:8). Только очищенная душа может "вместить" Бога без искажений.
«Никакой иноплеменник и необрезанный, – написано, – не будет есть тайны Пасхи (ср. Исх. 12:43, 48)».
Ссылка на Ветхий Завет (Исх. 12:43–48): только обрезанные (посвящённые в завет) израильтяне и принятые пришельцы могли есть пасхального агнца. Исаак аллегорически применяет это к духовной жизни: "иноплеменник" (чужак) – грешник, не очищенный; "необрезанный" – тот, чьё сердце не "обрезано" от страстей (ср. Рим. 2:29: "обрезание сердца"). "Тайны Пасхи" – символ высших духовных тайн (Евхаристии, познания Бога), доступных только подготовленным.
В христианском толковании Пасха – прообраз Христовой жертвы. Исаак подчёркивает, что без "духовного обрезания" (отсечения грехов) человек не может участвовать в божественных тайнах. Это предостережение от преждевременного "вкушения" – как в монашеской практике, где новички не допускаются к глубоким молитвам без подготовки.
28–30. Условия истинного созерцания и препятствия к нему
28. Бодрствование в созерцании и жительство в познании приближают к духовному жительству того, кто завершил телесные труды, приблизился к старости и чьё тело успокоилось благодаря уединению, бдительности и усердию ума. На нём непрестанно исполняется сказанное: «и ночь светла, как день» (Пс. 138:12). Ему нужно будет лишь недолгое время бодрствовать в этом делании против искушения хулой. Если в нём найдётся смирение, он легко будет освобождён светом веры, который по благодати взойдёт над ним. Если же он пребудет в рассеянности и общении с миром, то помрачится в созерцании и заблудится в уме своём, и, приближаясь к этому деланию, будет искушаем хулой. Ибо ничто так не вредит безмолвию, как общение с миром и рассеянность чувств.
В этом тексте Исаак описывает высшую ступень духовной жизни – переход от телесного подвига к чистому созерцанию, характерный для зрелого возраста подвижника.
Тема духовного бодрствования пронизывает всё Писание. В Евангелии Христос многократно призывает: "Бодрствуйте и молитесь" (Мф. 26:41), "Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдёт бодрствующими" (Лк. 12:37). В апокрифической Книге Еноха "Стражи" (Бодрствующие) – это ангельские существа, которые должны были непрестанно созерцать Бога, но пали из-за вожделения к дочерям человеческим.
У христианских подвижников бодрствование (γρηγόρησις) понимается многомерно:
– Антоний Великий: бодрствование как постоянная память о смерти и суде.
– Евагрий Понтийский: бодрствование ума против помыслов.
– Макарий Египетский: бодрствование сердца в непрестанной молитве.
– Иоанн Лествичник: бодрствование как "стояние ума у дверей сердца".
Это состояние, которое Исаак именует «бодрствованием созерцания», представляет собой вершину созерцательной практики подвижника. Когда ум, очищенный от страстей и суетных помыслов, достигает непрерывной памяти о Боге, он входит в особое состояние неспящей активности. Это описание непрестанной духовной деятельности, очищенной от всего внешнего, возможно, вызовет в памяти искушенного читателя некоторую ассоциацию с философией Аристотеля.
Так, в XII книге «Метафизики» Аристотель описывает божественный Ум (νοῦς), который вечно направлен на самого себя, будучи «мышлением мышления» (νόησις νοήσεως). Этот Ум пребывает в состоянии вечной актуальности, он никогда не переходит в потенциальность, то есть, образно говоря, никогда не «засыпает». Можно усмотреть некоторое сходство: как аристотелевский божественный Ум пребывает в вечном акте мышления, так и подвижник, по учению Исаака, стремится к непрерывной умной активности в своем «бодрствовании созерцания». Более того, Аристотель связывает эту высшую деятельность мышления с высшим блаженством и наслаждением. И у Исаака этот труд вознаграждается духовной радостью, светом, который «взойдёт над ним по благодати».
Однако именно здесь, на фоне этих типологических схождений, и пролегает непреодолимая пропасть между эллинской философией и христианским откровением.
Во-первых, у Аристотеля вечный активный интеллект – это сущностный, неотъемлемый атрибут самого Бога, Перводвигателя. Человеческий интеллект не является таким. Он может стать только в некоторой степени причастным к божественному Уму, получить озарение его светом. Исаак подчеркивает, что этот свет и это созерцание обретаются «по благодати». Подвижник лишь готовит сосуд своей души, но наполняет его Сам Бог.
Во-вторых, аристотелевский Ум – безличен. Это философский принцип, вызывающий восхищение, но не вступающий в диалог. Он не «озабочен» спасением человека.
В свете этого, идеал непрестанного, самодостаточного мышления, нашедший свое предельное философское выражение у Аристотеля, в учении преподобного Исаака обретает совершенно иное измерение. «Бодрствование в созерцании» – это преображенное личным опытом богообщение, аскетический подвиг и, самое главное, действие благодати. Это не умозрительная интеллектуальная деятельность, а целостное состояние человека, в котором ум, сердце и тело участвуют в непрестанном предстоянии Богу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.