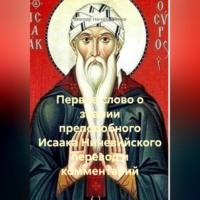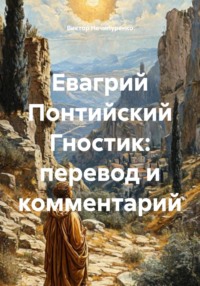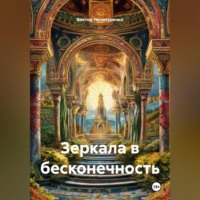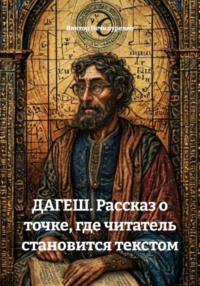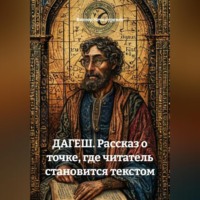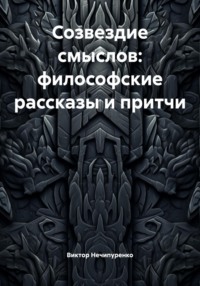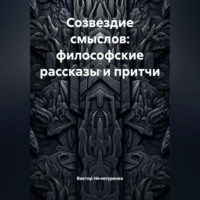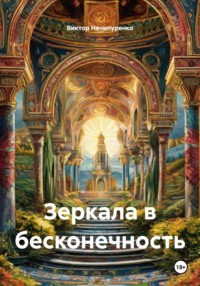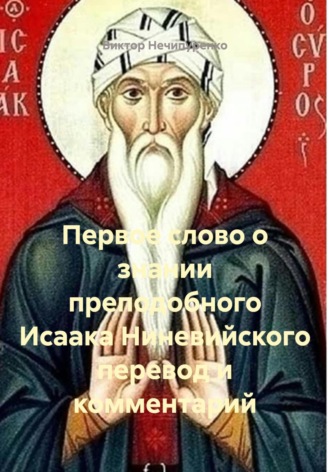
Полная версия
Первое слово о знании преподобного Исаака Ниневийского перевод и комментарий
В этом размышлении преподобный Исаак возводит наше понимание языка от утилитарного инструмента к священному дару, имеющему божественное происхождение и изначальное литургическое предназначение. Он утверждает, что язык не является продуктом эволюции или человеческого изобретения. «Разумные природы научились пользоваться чувственным звуком слова вначале от Творца», – пишет он, описывая акт божественной педагогики. Бог не просто вкладывает в Свои создания – прежде всего, в ангельские чины (kyānē mlīlē) – некую способность, но и учит их ею пользоваться.
И каково же было первое слово, первый урок? Исаак отвечает с предельной ясностью: «первым его применением было славословие, воздаваемое Создателю». Это утверждение раскрывает изначальную телеологию языка. Речь (meltā) была дана не для практических нужд, а для богославословия (tešbuḥtā). Прежде чем слово стало инструментом мира, оно было голосом космической литургии. Для подтверждения этой мысли Исаак обращается к книге Иова: «когда звезды утренние ликовали вместе и все сыны Божии восклицали от радости» (Иов. 38:7). В восточносирийской экзегетической традиции, к которой принадлежал Исаак, этот текст понимался особым образом: Бог, сотворив ангелов, начал творить посредством слова, чтобы научить их речи, и первым их ответом было именно славословие.
Затем Исаак проводит прямую параллель: «Также и мы, сыны человеческие, получили от Творца звуки речи чувственным образом». Наш дар слова – не нечто иное, а продолжение того же божественного дара. Мы призваны присоединить свой голос к этому предвечному ангельскому хору. При этом «чувственный образ» (regšānā'īt) речи указывает на ее воплощенность, на связь с нашей телесной природой.
И наконец, Исаак указывает на удивительный парадокс в способе передачи этого дара: «эта способность доходит до нас, передаваясь от отцов к их потомству». Божественный дар, полученный от Самого Творца, укореняется в человеческой истории и передается через живую цепь поколений. Здесь божественное и человеческое, благодать и история сплетаются воедино. Каждый акт обучения ребенка речи таинственным образом воспроизводит первоначальный педагогический акт Бога.
Учение Исаака здесь противостоит как натуралистическим, так и конвенциональным теориям происхождения языка. Для него владение словом – это не социальная условность, а богоданная способность, укорененная в самой структуре разумного бытия. А значит, литургия есть возвращение языка к его первоначальному назначению, а всякое иное его использование – вторично. В этом учении неявно содержится и эсхатологическая перспектива: в будущем веке очищенная речь вернется к своей первой и единственной цели – чистому славословию, где человеческие голоса сольются с ангельскими в вечной космической литургии.
9–10. Познание Спасителя и материальная природа в этом и грядущем мире
9. Те, кто утверждает, что видение нашего Спасителя в этом мире происходит как-то иначе, нежели через созерцание, являются единомышленниками тех, кто говорит, что в грядущем мире наслаждение Его Царством будет чувственным, и что там будут использоваться стихии и грубость субстанций. И те, и другие погрешили против истины.
Исаак Ниневийский выступает против двух взаимосвязанных заблуждений, которые искажают понимание природы богопознания и эсхатологической реальности. Его критика направлена против овеществления духовного опыта – как в настоящем, так и в будущем веке.
Первое заблуждение состоит в разделении видения Спасителя на два типа: чувственное восприятие в материальном мире и умное созерцание. Исаак настаивает, что подлинное видение Христа всегда есть акт созерцания, даже когда оно происходит в условиях земной жизни. Это не означает докетизма – отрицания реальности воплощения, но указывает на то, что истинное познание Христа требует духовного зрения, превосходящего простое чувственное восприятие.
Здесь прослеживается глубокая параллель с неоплатонической гносеологией. У Плотина истинное познание умопостигаемого невозможно через чувственное восприятие, – оно требует обращения души к своей умной природе. В "Эннеадах" (V.1.12) Плотин утверждает, что душа видит умопостигаемое "не глазами тела, но сама собой". Подобным образом Исаак указывает, что видение Спасителя – это всегда акт умного созерцания, даже если оно опосредовано чувственными образами.
Второе заблуждение – представление о Царстве Божием как о продолжении материального существования с его "стихиями и грубостью субстанций". Это грубый хилиазм, против которого выступает Исаак, утверждая чисто духовную природу будущего блаженства.
Прокл в "Платоновской теологии" развивает учение о различных уровнях причастности душ к божественному. Высшие души причащаются богам непосредственно, через свою умную природу, низшие – через посредство образов и символов. Но конечная цель – преодоление всякого опосредования и достижение непосредственного единения. Исаак, следуя этой логике, утверждает, что в будущем веке всякое чувственное опосредование будет преодолено.
Особенно важна мысль Исаака о том, что оба заблуждения – "друзья друг другу". Они исходят из общей ошибки: неспособности понять, что духовная реальность может быть воспринята только духовным образом. Те, кто разделяют видение Спасителя на чувственное и умное, неизбежно придут к овеществлению будущего Царства, ибо они не понимают природы духовного восприятия.
У Дамаския в трактате "О первых началах" мы находим утверждение о том, что высшее познание требует преодоления всякой двойственности между познающим и познаваемым. Истинное видение – это не субъект-объектное отношение, но единение, где видящий преображается в видимое. Исаак, хотя и не использует столь радикальных формулировок, движется в том же направлении: видение Спасителя есть преображающее созерцание, где человек становится причастником божественной природы.
Таким образом, Исаак утверждает единство духовного опыта во времени и в вечности. Созерцание Христа в земной жизни и блаженное видение в Царстве Небесном – это не два разных типа опыта, но единая реальность богообщения, которая начинается здесь через умное созерцание и достигает полноты в будущем веке, когда упразднится всякое чувственное опосредование.
10. Подобными [Спасителю] станут и Его братья, как по правую, так и по левую руку, за исключением степеней и различий в славе (ср. 1 Кор. 15:41). По Его подобию они будут вознесены от земных образов к образу преславному, при этом тело не будет упразднено, но, напротив, почтено изменением, которое оно получит, будучи возвышено от своего прежнего образа. Евагрий, верный свидетель Слова, говорит: «Если человеческое тело есть часть этого мира, а образ мира сего преходит, то ясно, что и образ тела также прейдёт».
Исаак Ниневийский развивает учение о преображении человеческой природы в эсхатологической перспективе. "Его братья" – это все люди, призванные к уподоблению Христу, причем как "правые", так и "левые" участвуют в этом преображении, хотя и с различием "в степенях и славе".
Ключевая мысль Исаака состоит в том, что преображение не означает отвержения телесности как таковой. "Тело не будет упразднено", но "будет прославлено из-за изменения, которое оно получит". Это изменение описывается как переход от "земных образов" к "образу преславному". Здесь проявляется христианская трансформация платонической антропологии: если у платоников спасение часто понималось как освобождение от тела, то у Исаака речь идет о преображении самой телесности.
Ссылка на Евагрия углубляет эту мысль: "Если человеческое тело есть часть этого мира, а образ мира сего преходит, то ясно, что и образ тела также прейдёт". Важно различение между телом как таковым и его образом. Прейдет именно "образ" – способ существования тела в условиях падшего мира, но не сама телесная природа человека.
Здесь обнаруживается глубокая параллель с неоплатоническим учением об умной материи. У Прокла в "Комментарии к Тимею" развивается концепция различных уровней материальности. Существует не только чувственная материя космоса, но и умопостигаемая материя в мире идей. Боги обладают особыми "световидными телами" (αὐγοειδῆ σώματα), которые качественно отличаются от грубых материальных тел.
Эта идея восходит к древней традиции. Уже Гомер говорит о том, что у богов "иная кровь" – ихор, и что их тела обладают особыми свойствами. Платон в "Федре" описывает небесные тела богов как совершенные и нетленные. Ямвлих развивает учение о различных видах "оболочек" (ὀχήματα), в которые облекаются души на разных уровнях бытия.
У Дамаския эта тема получает систематическое развитие. Он различает множество уровней телесности – от грубой материальной до тончайшей эфирной и световой. Каждому уровню души соответствует свой вид телесности. Высшие души облечены в "световые тела", которые не подвержены распаду и изменению в обычном смысле.
Исаак, используя это философское наследие, вносит в него христианское содержание. Преображенное тело будет подобно телу воскресшего Христа – реальное, но обладающее новыми свойствами. Это не просто возвращение к состоянию до грехопадения, но восхождение к новому, высшему способу существования.
Тело, "будучи возвышено от своего прежнего образа", – это не уничтожение человеческой природы, но ее возведение на новый онтологический уровень. Тело становится полностью прозрачным для духа, преодолевается противоположность между материальным и духовным. Как у неоплатоников боги обладают особой "божественной материей", так у Исаака святые получат преображенные тела, способные к полному участию в божественной славе.
Таким образом, христианская эсхатология у Исаака предстает не как спиритуалистическое отрицание материи, но как ее радикальное преображение, где сама материальность становится носителем и выражением духовной реальности.
11. Разное восприятие Бога людьми
11. Промышляющая о нашей жизни благодать в сердцах тех, кто в свободе своего поведения, по превосходству своей воли и усердия стал достоин быть сыном Божьим, пробуждает движения, обращённые к Богу как к своему Отцу; в тех, кто в своей жизни является слугой, [располагает] к движениям, обращённым к Нему как к Господину; а в тех, кто чужд Ему в своих поступках, возбуждает побуждения, направленные к Его величию как к Судье. Смотри, как и Евангелие, полное жизни, устанавливает эти три расположения к Богу: есть места, где Он назван Отцом, где – Хозяином дома, а где – Царём и Судьёй.
Исаак Ниневийский раскрывает тройственную структуру отношений между человеком и Богом, определяемую духовным состоянием человека. Благодать действует универсально, но воспринимается и переживается по-разному в зависимости от внутреннего расположения души.
Первый и высший тип отношений – сыновство. Те, "кто в свободе своего поведения, по превосходству своей воли и усердия стал достоин быть сыном Божьим", движутся к Нему как к Отцу. Здесь подчеркивается синергия человеческой свободы и божественной благодати. Сыновство не навязывается, но достигается через свободный выбор и духовное усилие.
Второй тип – отношения раба и Господина. Это те, кто еще не достиг сыновней свободы, но уже вступил на путь служения. Их движение к Богу определяется послушанием и исполнением заповедей. Это необходимая ступень духовного восхождения, через которую душа учится подчинять свою волю воле божественной.
Третий тип – отношение к Богу как к Судье – характерен для тех, кто "чужд Ему". Благодать и здесь не оставляет человека, но действует через страх суда, побуждая к покаянию и обращению.
Эта тройственная схема обнаруживает интересные параллели с неоплатонической иерархией духовного восхождения. У Плотина в трактате "О трех первоначальных ипостасях" (V.1) описывается восхождение души через различные уровни бытия. На каждом уровне душа уподобляется тому, к чему стремится. "Душа становится тем, что созерцает", – этот принцип определяет весь процесс восхождения.
Ямвлих в трактате "О египетских мистериях" развивает учение о различных классах душ и соответствующих им способах богопочитания. Низшие души приближаются к богам через внешние ритуалы и жертвоприношения (что соответствует рабскому служению у Исаака). Средние – через добродетельную жизнь и очищение. Высшие – через непосредственное созерцание и единение с божественным (что параллельно сыновним отношениям).
У Прокла в "Платоновской теологии" эта иерархия получает детальную разработку. Он различает души, которые всегда пребывают с богами (ἀεὶ ἑπόμεναι), души, которые иногда восходят к ним (ποτὲ ἑπόμεναι), и души, погруженные в материю. Каждый класс душ имеет свой способ причастности божественному.
Однако между неоплатонической и христианской схемами есть существенное различие. У неоплатоников восхождение определяется прежде всего онтологическим статусом души и степенью ее очищения от материи. У Исаака же ключевую роль играет личностное отношение и свободный выбор. Благодать действует на всех уровнях, адаптируясь к состоянию человека, но не упраздняя его свободу.
Более того, если в неоплатонизме низшие ступени преодолеваются и оставляются позади при восхождении, то у Исаака они сохраняют свою ценность. Даже отношение к Богу как к Судье есть форма благодатного воздействия, ведущая к спасению. Евангельские образы Отца, Хозяина дома и Судьи не исключают, но дополняют друг друга, раскрывая полноту божественной педагогики.
Таким образом, Исаак создает синтез, где неоплатоническая идея уподобления божественному через восхождение соединяется с библейским персонализмом и учением о благодати, действующей на всех уровнях человеческого существования.
12. Духовное восхождение согласно образу жизни
12. Человек просвещается в соответствии со своим благим житием пред Богом и приближается к свободе души по мере того, как влечётся к познанию. Он ведётся от одного познания к другому, более высокому, в той же мере, в какой приближается к обладанию свободным умом.
Исаак раскрывает динамическую взаимосвязь между нравственным совершенствованием, познанием и обретением подлинной свободы. Эта триада – добродетель, знание, свобода – образует восходящую спираль духовного развития.
"Человек просвещается в соответствии со своим благим житием пред Богом", – здесь утверждается фундаментальный принцип: этическое очищение является необходимым условием гносиса. Это созвучно учению Плотина, который в "Эннеадах" (I.6.9) утверждает: "Никогда глаз не увидел бы солнца, не став солнцевидным, и душа не увидит прекрасного, не став прекрасной". Добродетель преображает саму познавательную способность души.
Далее Исаак говорит о двух видах свободы – свободе души и свободе ума. Свобода души достигается через восхождение к знанию, а свобода ума открывает путь к высшим формам познания. Эта иерархия свобод напоминает учение Прокла о различных уровнях самоопределения души. В "Комментарии к Алкивиаду" он различает свободу выбора (προαίρεσις), свойственную рациональной душе, и высшую свободу ума (νοῦς), который самоопределяется в чистом созерцании.
У Евагрия Понтийского, на которого часто ссылается Исаак, эта тема получает христианское осмысление. В "Практике" Евагрий описывает путь от πρακτική (деятельной жизни) через φυσική θεωρία (естественное созерцание) к θεολογία (богословию). Каждая ступень требует особого вида свободы: свободы от страстей, свободы от привязанности к чувственному, и, наконец, свободы от всякой множественности в единении с Богом.
Особенно важна мысль Исаака о восхождении "от одного познания к другому, более высокому". Здесь подразумевается бесконечность божественной реальности и, следовательно, бесконечность процесса познания. Это соответствует учению Григория Нисского об ἐπέκτασις – вечном восхождении души к Богу, где каждая достигнутая ступень становится началом нового восхождения.
У Дионисия Ареопагита в трактате "О божественных именах" развивается концепция иерархического восхождения через очищение (κάθαρσις), просвещение (ἔλλαμψις) и совершенство (τελείωσις). Каждая ступень характеризуется особым типом знания и соответствующей степенью свободы.
Максим Исповедник синтезирует эти традиции, говоря о трех видах движения души: по природе, по свободному выбору и по благодати. Истинная свобода достигается, когда все три движения приходят в гармонию, и душа движется к Богу всей своей природой, волей и благодатной силой.
Параллель с неоплатонизмом очевидна, но есть и существенное различие. У Плотина и Прокла восхождение души есть возвращение к своей истинной природе, актуализация того, что уже заложено в ней потенциально. У Исаака же каждая новая ступень знания есть дар благодати, превосходящий естественные способности души. Свобода ума – это не просто реализация природного потенциала, но результат синергии человеческого усилия и божественного дара.
Таким образом, Исаак представляет путь богопознания как динамический процесс, где этическое очищение, интеллектуальное просвещение и онтологическое освобождение неразрывно связаны, ведя душу к бесконечному восхождению в божественную реальность.
13. Свет в этом мире и в будущем
13. Не-умный свет – это свет стихийный. В новом мире взойдёт новый свет, и не будет нужды в использовании чего-либо чувственного и стихийного. Умный же свет – это ум, просвещённый божественным знанием, которое беспрепятственно изливается в природу. В духовном мире будет духовный свет: ибо ни та тьма не подобна здешней, ни здешний свет не подобен тому.
Исаак развивает глубокое учение о различных уровнях света, которое обнаруживает как библейские, так и философские корни. Различение между "не-умным" материальным светом и "умным" духовным светом открывает целую метафизику света.
"Не-умный свет" – это физический свет нашего мира, свет солнца и светил. Он назван неразумным не потому, что лишен всякого логоса (ведь все творение пронизано божественными логосами), но потому, что сам по себе не обладает познавательной способностью. Это свет для глаз тела, но не для очей ума.
У Плотина в трактате "О красоте" (I.6) развивается учение об иерархии светов. Чувственный свет есть лишь образ и подобие умопостигаемого света, исходящего от Единого. В "Эннеадах" (V.8.4) он говорит: "Там [в умопостигаемом мире] все прозрачно, и нет ничего темного или непроницаемого, но все явны для всех и в своем сокровенном, и во все остальном, ибо свет прозрачен для света". Умный свет – это сам Ум (Νοῦς), который есть одновременно свет и видение, познающее и познаваемое.
Прокл в "Комментарии к Пармениду" развивает сложную иерархию светов: есть свет Единого (сверхсущностный), свет Ума (умопостигаемый), свет Души (психический) и, наконец, физический свет. Каждый низший свет есть отображение высшего, но с убыванием онтологической полноты.
Ямвлих добавляет к этой схеме теургическое измерение. В трактате "О египетских мистериях" он говорит о божественном свете, который нисходит на теурга во время священнодействий. Этот свет преображает не только ум, но и само тело посвященного, делая его "световидным".
У христианских авторов эта тема получает новое звучание. Евагрий Понтийский в "Гностических главах" говорит о "чистой молитве", во время которой ум становится "световидным" (φωτοειδής). Этот свет не чувственный, но и не просто интеллектуальный – это нетварный божественный свет, преображающий саму природу ума.
Макарий Египетский (Симеон Месопотамский) в "Духовных беседах" многократно описывает опыт видения божественного света. Этот свет одновременно видим и невидим, он преображает всего человека – душу и тело. "Как тело Господне, когда взошел Он на гору, прославилось и преобразилось в божественную славу и в бесконечный свет, так и тела святых прославляются и делаются блистающими".
Максим Исповедник синтезирует эти традиции в учении о "логосах" творения. Каждая вещь имеет свой логос – божественную идею, которая есть одновременно ее бытийное основание и "умный свет". В эсхатологической перспективе все логосы явятся в своей световой природе, и весь космос станет прозрачным для божественного света.
Исаак, говоря что "в духовном мире будет духовный свет", указывает на радикальное преображение самого способа познания. "Ум, просвещённый божественным знанием", – это не просто интеллектуальное просвещение, но онтологическая трансформация. Ум становится светом, потому что всецело проникается божественным Логосом-Светом.
Слова "ни та тьма не подобна здешней, ни здешний свет не подобен тому" указывают на качественное различие между светом и тьмой в материальном и духовном мирах. В духовном мире тьма – это не простое отсутствие света, но активное отвержение его. И свет там – не физическое явление, но само присутствие Бога, Который есть "Свет неприступный" и одновременно "Свет, просвещающий всякого человека".
14–16. Пути передачи истины и опасности споров
14. Не спорь об истине с тем, кто не знает истины, и не скрывай Слова от того, кто жаждет познать Его.
15. Пусть твоё молчание принесёт больше пользы, чем слово знания, тому, кто не может извлечь пользы из знания. Снизойди к нему в его немощи и, подобно ловцу птиц, говори с ним на языке, схожем с его, чтобы мудро уловить его для жизни.
16. Совершенно не смущайся словами того, кто спорит с истиной не по жестокосердию и злословит не по злобе, но терзаем невежеством. Пусть такие слова входят в уши твои, словно детский лепет.
В этих трех наставлениях Исаак Ниневийский раскрывает тонкое искусство духовной педагогики, основанное на различении духовных состояний собеседников и соответствующих способов общения с ними.
Первое наставление устанавливает два фундаментальных принципа. "Не спорь об истине с тем, кто не знает истины", – здесь признается бесплодность интеллектуальных дебатов с теми, кто не имеет внутреннего опыта истины. Истина в понимании Исаака – не абстрактная концепция, но живая реальность, требующая определенной подготовленности души для ее восприятия. Спор здесь не приведет к познанию, но лишь к умножению слов. С другой стороны, "не скрывай Слова от того, кто жаждет познать Его" – истинное желание познания создает в душе восприимчивость, делающую возможной передачу духовного знания.
Второе наставление углубляет тему духовного такта. Молчание может быть более благотворным, чем преждевременное откровение высоких истин. Образ птицелова поразителен своей точностью: как охотник подражает голосам птиц, чтобы привлечь их, так духовный наставник должен говорить на языке, понятном слушателю. "Знание жизни" здесь – это мудрость, позволяющая найти правильный подход к каждой душе, постепенно возводя ее к высшим истинам.
Третье наставление касается различения мотивов непонимания. Исаак выделяет три возможные причины противления истине: жестокосердие, злоба и неведение. Только последнее заслуживает снисхождения. Неведение, не отягощенное злой волей, подобно детскому состоянию – оно может быть преодолено через терпеливое научение. "Детский лепет" – это не презрительная характеристика, но указание на начальную стадию духовного развития, требующую отеческого терпения.
Во всех трех наставлениях прослеживается глубокое понимание того, что истина не может быть передана механически, через простое изложение доктрин. Она требует соответствия между уровнем говорящего и слушающего, между формой изложения и способностью восприятия. Это созвучно святоотеческому принципу "икономии" – приспособления высших истин к немощи воспринимающих.
Здесь также видна связь с неоплатонической традицией постепенного посвящения в высшие тайны. Как в философских школах существовали степени посвящения – от экзотерического учения для начинающих до эзотерических тайн для продвинутых, так и в духовной жизни необходима постепенность и различение уровней готовности.
Исаак предстает здесь не только как мистик-созерцатель, но и как мудрый духовный руководитель, понимающий всю сложность передачи духовного опыта и необходимость индивидуального подхода к каждой душе на ее пути к истине.
17. Свидетельства Писания о восприятии Бога людьми
17. После нарушения заповеди Бог открывался людям как Судья. Затем, в промежуточных откровениях, Он являлся как Господин – как Ною, Аврааму и тем, кто был после него. Ибо написано: «раб Мой Авраам» и «раб Мой Моисей». С пришествия же Христа имеют место откровения, указывающие на чин Его отцовства: что Он воистину Отец и не имеет воли к господству и суду над нами.