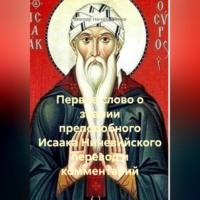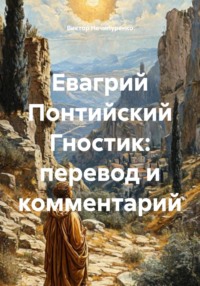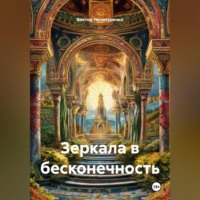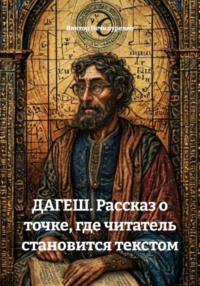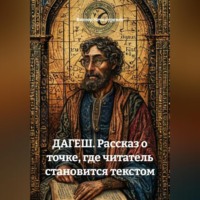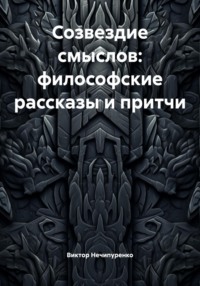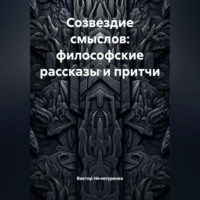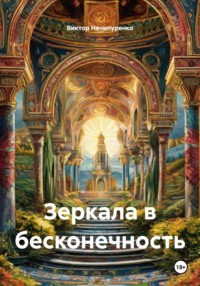Первое слово о знании преподобного Исаака Ниневийского перевод и комментарий
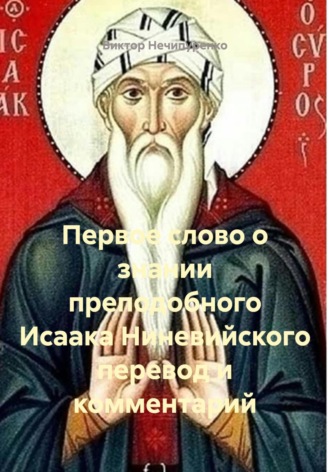
Полная версия
Первое слово о знании преподобного Исаака Ниневийского перевод и комментарий
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу