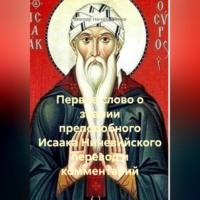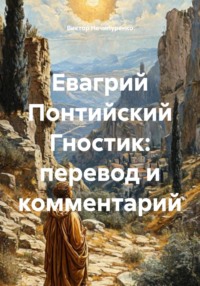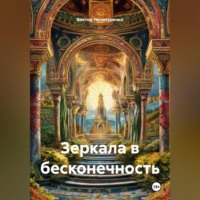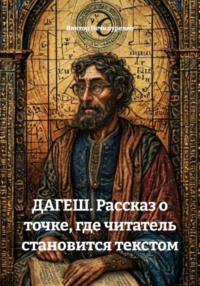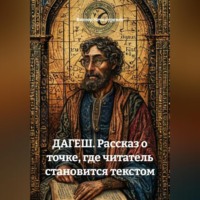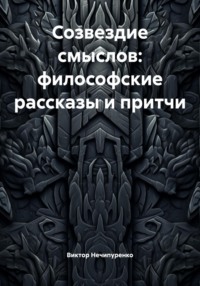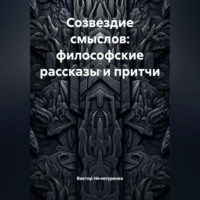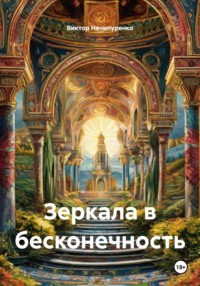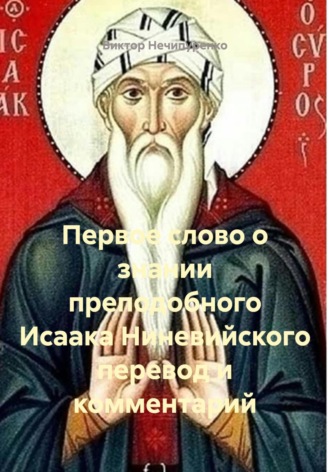
Полная версия
Первое слово о знании преподобного Исаака Ниневийского перевод и комментарий
Исаак представляет динамическую картину истории богооткровения, где способ явления Бога человечеству изменяется в соответствии с духовным состоянием людей и этапами домостроительства спасения.
Первый этап – после грехопадения – характеризуется явлением Бога как Судьи. Это не изменение в самом Боге, но изменение в способности человека воспринимать божественное. Грех создал онтологическую дистанцию между Творцом и творением, и эта дистанция переживается как суд. Заповедь, данная в раю как путь к обожению, после ее нарушения становится обличением и приговором.
Второй этап – "в промежуточных откровениях" – время патриархов и пророков. Бог является как Господин своим верным рабам. Это уже более близкие отношения, чем суд над преступником. Раб находится в доме господина, он причастен его жизни, хотя и не на правах сына. Авраам и Моисей названы "рабами", но это почетное рабство, означающее избранность и близость к Богу.
Третий этап – решающий – начинается с пришествия Христа. Здесь происходит онтологический прорыв: Бог открывается как Отец. Исаак подчеркивает: "Он воистину Отец и не имеет воли к господству и суду над нами". Это не означает упразднения справедливости или заповедей, но раскрывает их подлинный смысл – они даны не для порабощения, но для усыновления.
Контраст с неоплатонической концепцией божества здесь очевиден. У Плотина Единое абсолютно трансцендентно и безлично. Оно не может быть ни судьей, ни господином, ни отцом в личностном смысле. Единое "по ту сторону" всяких отношений. Эманация происходит с необходимостью, без личного волеизъявления.
У Прокла боги более "личностны", они промышляют о космосе, но это промышление осуществляется через неизменные законы, а не через личные отношения. Божественная иерархия статична, и место каждого существа в ней определено раз и навсегда.
Библейское же понимание, выраженное Исааком, представляет Бога как личность, способную к различным модусам отношений с человеком. Более того, эти отношения развиваются во времени, имеют историю. Бог "не имеет воли к господству" – здесь утверждается наличие у Бога личной воли и предпочтений, что немыслимо в неоплатонизме.
Особенно важно, что явление Бога как Судьи или Господина представлено как вынужденное, обусловленное падшим состоянием человека. Истинное же желание Бога – Отцовство, то есть отношения любви и свободы. Это радикально отличается от неоплатонической концепции неизменного и бесстрастного божества.
Воплощение Христа становится поворотным пунктом, потому что в Нем преодолевается онтологический разрыв между Богом и человеком. Человеческая природа во Христе усыновляется Богу, и через это усыновление все верующие получают "духа усыновления, которым взываем: Авва, Отче!" (Рим. 8:15).
Таким образом, история спасения предстает у Исаака как постепенное восстановление изначального замысла Бога о человеке – не рабе или подсудимом, но возлюбленном сыне, призванном к участию в божественной жизни.
18–19. Величие небесной славы и преодоление земных уз
18. Хорошо нам говорить: «Горе нам! Какого созерцания мы лишаем себя из-за нашего нерадения!»
19. Горе нам, ибо мы не знаем, какова была воля нашего Создателя о нас и какого величия Он удостоит нас, а вместо этого привыкли к земным вещам и их смраду! Нам следовало бы упиваться надеждой и постоянно пребывать памятью в той нашей великой и дивной обители, переселяясь мыслями туда, где наш Создатель в конце поселит нас… Ибо наше жительство – на небесах (ср. Флп. 3:20), и мы станем небесными в той жизни, которой нет конца и в которой не будет изменений, где Бог уготовал нам это благо и посеял в нас надежду на него во Христе. Как сказал и блаженный Толкователь в «Томе о тверди»: «Итак, сейчас, находясь в нынешнем устроении, мы обитаем в этой области, то есть под этим видимым небом и на земле. Но в грядущем устроении, когда мы станем нетленными и свободными от [греховного] наклонения, мы все будем обитать на небе, где ныне пребывает Христос, Господь наш, вознёсшийся от нас и ради нас на небо – Он, показавший нам, что там и есть наше жилище».
В этих главах Исаак Ниневийский выражает глубокое сокрушение о духовной слепоте человечества и одновременно раскрывает величественную перспективу небесного призвания человека. Его восклицание "Горе нам!" – это не просто риторический прием, но выражение подлинной боли о потерянных возможностях созерцания.
Здесь обнаруживаются явные параллели с платонической традицией. Противопоставление земного "смрада" и небесной славы напоминает платоновское различение между миром становления и миром истинного бытия. Как узники пещеры у Платона принимают тени за реальность, так и мы, по Исааку, из-за "привычки к земным вещам" не видим подлинной реальности нашего небесного призвания.
В "Федоне" Платон говорит о том, что философия есть "упражнение в умирании" – отвлечение души от телесного к созерцанию вечного. Исаак призывает к подобному: "постоянно находиться, со своей памятью, в этом великом и изумительном нашем доме". Память здесь выступает как способность души удерживать связь с небесной родиной, несмотря на погруженность в земное существование.
Однако христианское переосмысление платонизма у Исаака радикально. Если у Платона восхождение к небесному есть возвращение души к своему естественному состоянию через припоминание (анамнесис), то у Исаака это восхождение возможно только через Христа. "Христос, Господь наш, вознёсшийся от нас и ради нас" – здесь ключевые слова "от нас". Христос не просто указывает путь, как платоновский философ, но, приняв человеческую природу, онтологически открывает этот путь.
Упоминание о том, что мы станем "нетленными и свободными от [греховного] наклонения", отсылает к учению о преображенной человеческой природе. Это не платоновское освобождение от тела, но преображение самой телесности. Нетление – это не бестелесность, но новый способ существования, где материя полностью пронизана духом.
"Упиваться надеждой", – этот образ напоминает "божественное безумие" из "Федра", но с существенным отличием. У Платона это экстатическое восхождение души к созерцанию идей. У Исаака же это упование на обетование, данное во Христе. Надежда здесь – не просто психологическое состояние, но онтологическая реальность, "посеянная в нас" Богом.
Ссылка на "блаженного Толкователя" (вероятно, Феодора Мопсуестийского) подчеркивает космологическое измерение спасения. Нынешнее "строение" мира – временное. В будущем веке "мы все будем обитать на небе". Это не означает уничтожения творения, но его радикальное преображение, где исчезнет разделение на небесное и земное.
Таким образом, Исаак использует платонический язык тоски по небесной родине, но наполняет его христологическим содержанием. Человек призван к небесной жизни не в силу природного родства души с божественным (как у платоников), но через усыновление во Христе, Который, будучи истинным человеком, открыл человеческой природе путь к обожению.
20. Плоды аскетического безмолвия
20. Не думай, что долгое пребывание в поклонении перед Богом – это праздность; знай, что даже псалмопение не столь велико, как оно. Нет ничего величественнее его среди всех добродетелей, совершаемых сынами человеческими. Но что я говорю о добродетелях, когда человек в непрестанном предстоянии Богу отлагает и саму добродетель? Это есть знак смерти для мира и путь точного покаяния, по слову Толкователя; это – смирение тела и ума, прекращение дурных мыслей, растворение желаний, таинственное приготовление души к совершенному исходу из тела и великая готовность к любви Божией. В этом поклонении обретаются все блага – и здешние, и будущие.
Да не покажется тебе малым это делание: если можешь, совершай его непрестанно (ср. 1 Фес. 5:17), отрекаясь от всего и от самого себя и усердствуя лишь в нём одном. Если ты предашься ему, не говори о своём блаженстве земным языком. Говорю тебе, то, что происходит в тебе от этого – вещи несказанные и дивные. Это воистину совершенный исход из мира, или, вернее, от тленных образов жизни. Это – цель всех трудов, смысл всех заповедей и исполнение всякой добродетели.
В этой главе Исаак Ниневийский раскрывает высшую форму духовной практики – созерцательный покой (ἡσυχία), который превосходит все другие формы благочестия, включая псалмопение. Речь идет именно о созерцании Бога в состоянии внутреннего покоя, а не о праздности.
Исаак утверждает парадоксальную истину: этот покой есть высшая активность души. "В непрестанном предстоянии Богу" человек использует саму добродетель покоя как средство. Это не пассивность, но предельная концентрация всех сил души на Едином. Здесь прослеживается влияние традиции исихазма, восходящей к Евагрию и отцам-пустынникам.
Покой описывается через серию отрицаний и утверждений. Это "смерть для мира" – не физическая, но онтологическая, когда душа перестает жить по законам падшего мира. Это "путь истинного покаяния" – μετάνοια в глубочайшем смысле, как полное преображение ума. "Прекращение злых помыслов" и "освобождение от страстей" – не через борьбу, но через погружение в божественное присутствие, где страсти естественно угасают.
Особенно важно указание на то, что это состояние есть "таинственное приготовление души к совершенному исходу из тела". Здесь намек на мистическую смерть и воскресение, которые душа переживает еще при жизни тела. Это созвучно учению апостола Павла: "Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос" (Гал. 2:19-20).
Исаак настаивает на абсолютном приоритете этой практики: "отрекаясь от всего и от самого себя". Это тотальное самоотречение ради единого на потребу. Результат превосходит всякое описание: "то, что происходит в тебе от этого – вещи несказанные и дивные". Апофатический момент здесь принципиален – высший духовный опыт трансцендирует возможности языка.
Исаак говорит об умном созерцании Бога умом спокойным. Это не дискурсивное мышление, анализирующее природные логосы, но непосредственное предстояние Богу в молчании ума. В неоплатонической терминологии это соответствует переходу от διάνοια (рассудочного мышления) к νόησις (интуитивному созерцанию), а затем и превосхождению самого ума в единении с Единым.
"Это – цель всех трудов, смысл всех заповедей и исполнение всякой добродетели", – эта формула указывает на то, что созерцательный покой не отменяет активную жизнь, но является ее целью и завершением. Все заповеди и добродетели суть ступени, ведущие к этой вершине, где душа пребывает в непрестанном богообщении.
Блаженство, "невыразимое земным языком", есть предвкушение будущего века, когда созерцание Бога лицом к лицу станет вечным состоянием спасенных. Но уже здесь, в условиях земной жизни, подвижник может достичь этого состояния, став "совершенным исходом из мира" – не покидая мир физически, но созерцательно пребывая в ином измерении бытия.
21–22. Вечное священство Христа
21. «Ты священник вовек» (Пс. 109:4). «Вовек» означает, что Господь наш Христос и сейчас действует как священник и совершает дело священства во искупление нас. Это происходит непрестанно, до тех пор, пока Он не приведёт всех нас к Себе. Тогда Ему уже не будет нужды священнодействовать за нас посредством жертв примирения, поскольку вся природа обретёт через Него совершенство. Вместо этого Он обильно изольёт на нас дары Отца. Ибо жертвы и молитвы нужны там, где есть грех и склонность ко злу.
Разъяснение: Эта глава согласуется с той, что идёт после неё, и подтверждает её содержание.
22. Священство Христово состоит в том, что Он приносит божественной природе, в Нём обитающей, молитву за всю природу разумных существ. Ибо если Он с усердием делал это, живя на земле, как видно во многих местах Евангелия, то тем более делает это сейчас, о чём свидетельствует и Апостол. Он пишет: Он вошёл, чтобы предстать за нас пред лице Божие (Евр. 9:24). Вникни в смысл слов «за нас»: за всех нас Он первым взошёл и воссел одесную Бога, и ходатайствует за нас. Не только за сынов человеческих, но и за святых ангелов. Ибо святые ангелы приобщаются к Его сродству в душе Его; мы же имеем в Нём нечто большее, ибо приобщаемся к Нему и душой, и телом. Бог не напрасно взял от нас начаток, вознёс его на небо прежде времени и посадил рядом с Собой, по правую руку: ибо через него Он дарует нам те блага, познание которых уже сейчас приносит пользу чувствам тела и движениям души. Ибо Он в Духе открывает Бога тому, к кому благоволит.
Разъяснение: Он приносит не молитву из слов, но, вместо молитвы, всё совершает в действии и с силою.
Из Евагрия: Первосвященник – это тот, кто молит Бога о всех разумных природах, отделяя их своим посредничеством от зла и невежества.
В этих двух главах Исаак Ниневийский развивает глубокое учение о вечном священстве Христа, которое обнаруживает интересные параллели с неоплатонической концепцией посреднической функции высшего Ума.
Ссылка на Псалом 109:4 ("Ты священник вовек по чину Мелхиседека") устанавливает типологическую связь между Христом и таинственной фигурой Мелхиседека – царя-священника, который благословил Авраама. В христианской традиции (особенно в Послании к Евреям) Мелхиседек понимается как прообраз Христа: без родословия, без начала и конца дней, соединяющий царское и священническое достоинство.
Исаак подчеркивает, что священство Христа не ограничивается историческим событием Голгофы, но продолжается "непрестанно, до тех пор, пока Он не приведет всех нас к Себе". Это динамическое понимание искупления как продолжающегося процесса возведения всей разумной природы к Богу.
У Плотина в "Эннеадах" (V.1) Ум выполняет посредническую функцию между Единым и Душой. Ум созерцает Единое и передает его свет низшим уровням бытия. Подобно этому, Христос у Исаака "приносит божественной природе, в Нём обитающей, молитву за всю природу разумных существ".
Прокл в "Платоновской теологии" развивает учение о "генадах" – божественных единицах, которые служат посредниками между абсолютно трансцендентным Единым и множественным миром. Каждая генада возводит определенный класс существ к единству. Христос в описании Исаака выполняет аналогичную функцию, но для всей совокупности разумных природ.
У Ямвлиха в "О египетских мистериях" теургическое восхождение осуществляется через посредство высших существ, которые очищают и возводят души. Христос как Первосвященник совершает универсальную теургию, очищая и возводя к Богу всю разумную природу.
Однако есть фундаментальные отличия от неоплатонизма.
1. Воплощение. Христос не просто космический Ум, но воплощенный Логос. Он взял человеческую природу целиком – "душой и телом". Это немыслимо в неоплатонизме, где высшие принципы не могут непосредственно соединиться с материей.
2. Личностное ходатайство. Христос "ходатайствует за нас" – это личностное, волевое действие, а не безличный онтологический процесс эманации.
3. Преображение тела. "Мы приобщаемся к Нему и душой, и телом" – здесь утверждается обожение всей человеческой природы, включая телесность.
Максим Исповедник в "Мистагогии" развивает учение о Христе как космическом Посреднике, соединяющем все разделения в творении. Христос преодолевает пять основных разделений: между мужским и женским, раем и вселенной, небом и землей, чувственным и умопостигаемым, тварным и нетварным.
Симеон Новый Богослов в "Гимнах" описывает мистический опыт единения со Христом, где Христос предстает как Свет, преображающий всю человеческую природу: "Он весь соединился со мной… и преложил меня в Свет".
Каллист Катафигиот в своих главах о молитве говорит о Христе как о "мосте", по которому человеческая природа восходит к божественной. Христос не просто указывает путь, но Сам становится этим путем.
Исаак создает удивительный синтез, где неоплатоническая космология преображается христологией. Христос выполняет функцию платонического Ума-Посредника, но делает это через личное воплощение и жертву. Его священство – это не абстрактная онтологическая функция, но живое личностное действие, охватывающее всю полноту разумного творения – ангелов и людей.
Конечная цель – когда "вся природа обретет через Него совершенство" – напоминает неоплатоническое возвращение (ἐπιστροφή) всего к Единому, но это возвращение осуществляется не через отвержение множественности и материальности, а через их преображение и обожение во Христе.
23. Духовные опасности телесного пресыщения
23. После насыщения чрева никогда не бывает так, чтобы к нам не приблизилось искушение помыслами и движение членов тела. Поэтому избегай его, как написано, чтобы тебе не забыть Господа и не совершить злодеяния. Ибо из-за смятения мысли, внезапно вторгающейся в тебя, ум легко блуждает, вплоть до согласия на постыдные дела. Нет совершенства в пресыщении, не будем обманываться! С пресыщением приходит пренебрежение, из-за поводов для стыда, которые бьют ключом изнутри нас; с пустотой же [чрева] – бодрствование и целомудрие. Однако бдительность должна касаться не только тела, но и ума.
В этой главе Исаак раскрывает фундаментальный принцип аскетической антропологии – психосоматическое единство человеческой природы и взаимовлияние телесного и духовного состояний.
Исаак описывает точную последовательность: насыщение чрева → искушение помыслами → движение членов тела → смятение мысли → блуждание ума → согласие на постыдные дела. Эта цепочка показывает, как физиологическое состояние переедания создает благоприятную почву для действия страстей.
Здесь прослеживается влияние Евагрия Понтийского, который в "Практике" детально анализировал взаимосвязь между чревоугодием и другими страстями. Евагрий учил, что демон чревоугодия является "предтечей" демона блуда, поскольку пресыщение разжигает телесные страсти.
С точки зрения христианского неоплатонизма, пресыщение усиливает связь души с материальным миром, делая ее менее способной к духовному созерцанию. Тяжесть переполненного желудка буквально "притягивает" душу к земле, затрудняя ее восхождение к умопостигаемому.
У Плотина мы находим учение о том, что душа, чрезмерно погруженная в телесные удовольствия, теряет способность к созерцанию высшего. Исаак христианизирует эту идею: пресыщение ведет к тому, что человек "забывает Господа" – теряет память о Боге, которая является основой духовной жизни.
"С пустотой чрева – бодрствование и целомудрие" – здесь пустота понимается не как лишенность, но как условие духовной восприимчивости. Легкость тела способствует легкости ума, создавая оптимальные условия для молитвы и созерцания.
Это соответствует учению пустынных отцов о том, что умеренное воздержание обостряет духовное зрение. Антоний Великий говорил: "Как тучное тело делает ум тупым, так изнурение тела делает душу смиренной".
Особенно важно завершающее указание на необходимость "бдительности не только тела, но и ума". Это преодолевает примитивный дуализм: аскеза не сводится к телесным упражнениям, но требует одновременной работы на обоих уровнях.
Максим Исповедник развивает эту мысль в учении о "двойном делании" – πρᾶξις (телесном подвиге) и θεωρία (умном созерцании), которые должны быть гармонично соединены в духовной жизни.
Исаак не проповедует манихейское отвержение тела, но призывает к его правильному использованию. Тело – не враг, но инструмент, который может либо помогать, либо препятствовать духовному восхождению. Правильное отношение к телесным потребностям создает условия для обожения всей человеческой природы – и души, и тела.
Ссылка на забвение Господа отсылает к Второзаконию 8:12-14, где Моисей предупреждает Израиль об опасности забыть Бога в состоянии материального благополучия. Исаак переносит это предупреждение на уровень личной аскетической практики: даже простое переедание может стать началом духовного отпадения.
24. Польза от созерцательного бодрствования
24. Бодрствование в созерцании освобождает ум от [ложных] мнений о Боге и утверждает в нём радость точного убеждения.
В этом лаконичном изречении Исаак сжато выражает целую программу духовного преображения ума. "Бодрствование в созерцании" – это не просто интеллектуальная активность, но особое состояние духовной собранности, где все силы души сосредоточены на божественном присутствии.
Термин "бодрствование" в аскетической традиции означает постоянную духовную трезвость, непрерывное внимание к движениям собственной души и присутствию Божию. Это противоположность духовной дремоте, в которой ум блуждает среди случайных помыслов и впечатлений.
Созерцание здесь – не абстрактное философствование, но живой опыт богообщения. Как учил Евагрий, истинное созерцание возможно только для ума, очищенного от страстей. Бодрствование и созерцание образуют единую духовную практику, где трезвение создает условия для созерцания, а созерцание поддерживает и углубляет бодрствование.
"Ложные мнения о Боге" – это не только еретические учения, но любые человеческие проекции и фантазии о божественном. Ум, не просвещенный благодатью, неизбежно создает идолов – ментальные конструкции, которые он принимает за истинного Бога. Это могут быть антропоморфные представления, проекции собственных страхов и желаний, философские абстракции, лишенные живого опыта.
Григорий Нисский в трактате "О жизни Моисея" описывает духовное восхождение как последовательное освобождение от всех ограниченных представлений о Боге. Каждая ступень познания разрушает предыдущие представления, открывая все большую глубину божественной тайны.
Особенно примечательно соединение "радости" и "точного убеждения". В греческой философской традиции ἀκρίβεια (точность) ассоциировалась с сухой логической строгостью. Но у Исаака точность богопознания порождает радость – не случайную эмоцию, но онтологическое состояние души, прикоснувшейся к Истине.
Эта радость напоминает платоновское описание души, созерцающей истинное Благо. Но если у Платона это интеллектуальное созерцание идей, то у Исаака – личная встреча с живым Богом. Максим Исповедник называет это "гностической радостью" – блаженством ума, познающего Бога не через рассуждения, но через непосредственное единение.
Процесс, описанный Исааком, имеет двойную природу: апофатическую (освобождение от ложного) и катафатическую (утверждение в истинном). Ум не просто опустошается от заблуждений, но наполняется положительным содержанием – "точным убеждением", которое есть не человеческое мнение, но отпечаток божественной истины в душе.
Слово "утверждает" указывает на устойчивость и непоколебимость этого знания. В отличие от человеческих мнений, подверженных сомнениям и изменениям, богопознание через созерцание дает незыблемую опору. Это напоминает евангельский образ дома, построенного на камне.
25–26. Похищение знания и дарование мудрости
25. Те, кто похищает знание, сами похищаются гордыней, и чем больше они размышляют, тем больше помрачаются. Те же, в чьи движения входит и вселяется знание, смиряются до бездны уничижения и с внутренним светом принимают в себя убеждение, дарующее радость (ср. Кол. 2:2).
В этой главе Исаак раскрывает фундаментальное различие между двумя способами отношения к духовному знанию – похищением и принятием, которые ведут к диаметрально противоположным результатам.
"Те, кто похищает знание", – здесь образ духовного воровства указывает на попытку овладеть божественными тайнами собственными усилиями, без смирения и благодати. Это напоминает миф о Прометее, похитившем огонь у богов, но в духовном контексте такое похищение оборачивается не благом, а катастрофой.
Похитители знания "сами похищаются гордыней" – происходит трагическая инверсия: думая, что они овладевают знанием, они сами становятся пленниками гордости. Это созвучно святоотеческому учению о том, что гордость есть "похищение божественной славы" – попытка присвоить себе то, что принадлежит только Богу.
"Чем больше они размышляют, тем больше помрачаются". Парадокс ложного гнозиса состоит в том, что усиление интеллектуальной активности ведет не к просвещению, но к помрачению. Это напоминает предупреждение апостола Павла: "называя себя мудрыми, обезумели" (Рим. 1:22). Ум, действующий автономно, без благодати, запутывается в собственных построениях.
Противоположный путь описан через образ знания, которое само "входит и вселяется" в человека. Здесь знание предстает как активная божественная сила, как благодать, которая сама избирает достойных. Человек не захватывает знание, но открывается ему, становится его вместилищем.