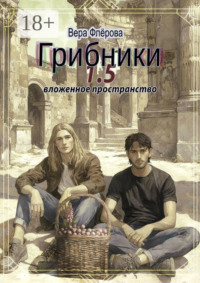Полная версия
Грибники – 3. Покормите мертвого кота
– Для прояснения вопроса, будем мы жить или отравимся? – вежливо уточнил он, заглядывая под бампер и выкатывая оттуда отвалившийся с брызговика кусок льда.
– Для прояснения вопроса, стоит ли вообще жить после аварии, – пробормотал Эйзен.
– Если заночуешь у нас, поймешь, что стоит. И до аварии, и после, – пообещал Джафар, выпрямляясь. Лицо его оставалось серьезным, но намек на глумление ощущался. Смотрел он, однако, на дорогу.
– Не могу отказать человеку, – проникновенным шепотом ответил Эйзен, – которому нравится со мной спать.
Джафар на секунду отвлекся от почищенной дороги и глянул на затянутое облаками темное небо. Пнул кусок льда, заставив его улететь в кювет и там пропасть.
– Не шути так, – сказал он меланхолично.
– Почему? – с наигранным простодушием возмутился Эйзен. – Тебе же можно.
– Мне можно, – подтвердил Джафар. – Тебе – нельзя.
– Почему?
Джафар глянул на укутанного в меха герцога и сказал с тяжелым вздохом:
– В этой пьесе все роли расписаны. Я – агрессор. И зритель поймёт это примерно на семнадцатой минуте.
– Вопрос от зрителя: а сейчас какая минута?
– Сейчас шестнадцатая.
– И я не успею убежать?
– От меня не скрыться. Я – зло внутри тебя.
– Пока еще снаружи…
Джафар снова адресовал ему тяжелый взгляд.
– Вот я же просил, – напомнил он.
– Ну, бывают ведь у героев пересекающиеся амплуа! – оправдывался Эйзен.
Механик вздохнул и пригладил волосы.
– Ты бы лучше со мной в чистке снега пересекся, – упрекнул он.
– Так второй лопаты нет.
Джафар наклонился к капоту, взял веник и бросил его герцогу.
– Подмети окна.
Приняв инструмент, герцог начал обходить машину и приноравливаться к лобовому стеклу.
– Зрителю это вряд ли будет интересно, – сказал он тем не менее, выковыривая из мерзлого сугроба на капоте ближайший стеклоочиститель.
– Зритель ни хрена не увидит, если окна будут в снегу, – сказал Джафар. – И я не увижу.
Эйзен взметнул веником облако пушистых снежинок. Потом еще и еще.
– Зло всевидяще!
– Не в такую погоду…
– Как может зло зависеть от погоды? Оно ведь всепогодное.
– Оно относительно. А по сравнению с этой погодой я так вообще добро…
– Ты заставил меня подметать окна. Добро так не делает.
– Это, Леша, для твоего же блага. Труд сделает из тебя человека.
– Не шути так.
– Зло шутит как хочет.
– Сейчас дочищу правую дверь и будет тебе веником.
– А я увернусь и отобьюсь лопатой.
– Ну и кто станет смотреть пьесу, где зло увернулось и отбилось лопатой? Этого и в жизни достаточно. Это не искусство.
– Антиутопия – тоже жанр искусства.
Джафар воткнул лопату в сугроб и вытер лицо мокрой перчаткой.
Эйзен к тому моменту аккуратно очистил весь левый бок ситроена.
– «Уж сколько их, – грустно продекламировал он, рассматривая заснеженные прутики, — упало в эту бездну,
разверстую вдали.
Настанет день,
когда и я исчезну
с поверхности Земли».
Театрально уронив руку с орудием труда, он посмотрел на Джафара из-под мехового капюшона.
– «Застынет все, – продолжил он, —
что пело и боролось,
сияло и рвалось.
И зелень глаз моих,
и нежный голос.
И золото волос.
И будет жизнь
с ее насущным хлебом,
с забывчивостью дня.
И будет все,
как будто бы под небом
и не было меня…»
Джафар слушал, опираясь на лопату и пристально глядя в зыбкую глубину снегопада.
– Вообще по поводу сюжета нашей пьесы ты неправ, – прервал декламацию Эйзен. – Знаешь, зачем я занялся Солнечным? Я пытался создать утопию. Уменьшить количество зла на одной территории. Социального зла.
– И нанял для этого асоциальное зло (то есть меня) следить за порядком, – дополнил Джафар. И замолчал, вспоминая что-то глубоко забытое. – «За быстроту стремительных событий, – продолжил он цитату, —
«За правду, за игру.
Послушайте…
Еще меня любите
За то,
Что я умру…» *
Чуть не выронив веник, Эйзен ощутил, как тревожный холод поднимается по спине и наполняет затылок тяжестью. На одно мгновение Джафар показался ему каменной статуей самого себя, жившего века назад; словно бы на лице у него не кожа была, а серый мрамор, тронутый тысячелетней эррозией. В этот миг Эйзен поймал себя на убеждении, что его друг никогда больше не пошевелится.
– Ну, не Рейнольда просить следить за порядком, – осторожно продолжил он разговор. – Этот разве что за беспорядком проследить может. Но, Яша, у тебя получается. И ты иногда (а чаще и не надо) … иногда ты можешь победить зло. Без тебя наше государство было бы невозможным. И без Барьера с его опасными чудесами. Вы у нас вместо Конституции.
Джафар внимательно наблюдал за ним и молчал.
– Хорошо, что ты ко мне поедешь, – сказал он наконец.
– Почему?
– Просто – хорошо… Мне иногда сильно не хватает твоей спонтанной жертвенности.
– Какая жертвенность? – развеселился Эйзен. – Я мизантроп.
– Ты – интегратор, – ласково поправил Джафар.
– Да! – воодушевился Эйзен. – Интегратор-мизантроп. Я ненавижу всех, кто не хочет интегрироваться.
– И лупишь их по морде, чтобы превратить в Конституцию.
Эйзен рассмеялся.
…Тут между ними плавно, не поднимая головы, проследовала сосредоточенная Кристина с длинной горизонтальной сумкой. Она походила усердную гусеницу, прокладывающую себе путь в джунглях.
– Откройте багажник, – буркнула она, остановившись.
– Что это? – спросил Джафар, выполняя ее просьбу.
– Рэнечка расчувствовался и решил прихватить с дачи бабушкин сервиз.
– Рэнечка стал странным, – сказал Эйзен. – Возможно, ему в голову установился дополнительный пакет эмоций.
– Или разблокировался глубоко запрятанный. Еще Рэнечка решил взять свою старую гитару. Хомяк.
– Давайте тогда и тетю Пашу заберем, – подсказал Джафар. – Раз уж она тоже грибник.
– Только при Рэнни это не говори.
– Тетя Паша в багажник не влезет, – сказал Эйзен.
– Так сзади трос закрепим и в саночки посадим, – предложил Джафар. – Корзинку с тридерисами в руки дадим. А вообще ее разобрать можно…
Эйзен посмотрел на него с укором.
– Не нравится мне этот поворот событий, – признался он, тревожно поглядывая на дом-усыпальницу. – Одно дело – в Бурятии, до которой никому нет дела, грибы и сторны. И совсем другое – в освоенный тридерисами труп в густонаселенном Подмосковье. За ментами и журналисты набегут. А наши клиенты не любят огласки.
– Дом можно спалить, – Джафар пожал плечами. – У меня запасной горючки двадцать пять литров.
– И тогда мы будем похожи на преступников, заметающих следы, – поморщилась Кристина. – Хотя это следы и вовсе чужих преступлений.
– Мы не так уж невиновны, – тихо напомнил Эйзен.
Лицо его выражало глубокое сожаление.
*
История из тетради
– Этой модели, насколько я понял, лет 60. Ее разрабатывали как универсальную. Поэтому у нее есть и две турбины, и винты, и реактивный движок. И компенсаторы…
Механик Октагона выковыривал мох из отсыревших швов обшивки космолета. Комплекс строился с расчетом на хорошую вентиляцию, но сейчас по его периметру площадки взошел лес, и микроклимат, как сказал бы Кеша, отсырел. Огнеупорная плитка, покрывавшая корабли, начала зеленеть, а в щелях прорастали пока еще примитивные, но уже вполне видимые растительные организмы.
– Вы так говорите, словно принимали участие в его разработке! – восхитился Лунин.
Сегодня здесь было ветрено; листья, цепляясь подсохшими уголками, шуршали по растрескавшимся плитам, а дальние деревья слегка раскачивались. Лурин кутался в коричневую курточку, оставшуюся у него еще со времен Вражбургского приюта и щурился на блестящие, размазанные по небу облачные перья.
Не принимал, мысленно возразил механик. Я здесь слишком недолго. Но в библиотеке Октагона есть записи об этом. А к библиотеке за техническим справками приходилось обращаться довольно часто.
Сначала, когда собирались всем вспомогательным персоналом корпуса на частые праздники, сотрудники вели себя странно и любое происшествие объясняли словом «диверсия». Загорелась проводка, которую сто лет не меняли – диверсия; прорвало ржавую трубу, у которой срок эксплуатации вышел лет двадцать тому назад – диверсия; кто-то в столовке траванулся просрочкой – она же. Механика мало интересовал чужой идиотизм, но вопрос о его причинах висел невысказанным. Потом дошло – его, как человека нового, боялись. Думали, вдруг стукач; вдруг донесет о неправильном образе мыслей. Джафар к тому времени поменял проводку, заменил все старые трубы, вызвал бригаду ремонтников отштукатурить подвал – и диверсии прекратились. Тайные агенты Вражбурга потеряли интерес к подсобным помещениям. Разве что мусор иногда по территории разбрасывали и урны поджигали. В бессильной злобе плевали на пол, бедолаги.
– Я не знаю, в чем я принимал участие, – сказал он Лурину, – до того, как попал к вам. Может, и в этом.
– Вы совсем-совсем ничего не помните?
– Тело помнит, – сказал Джафар. Явное неудовольствие в его голосе давало студенту понять, что он оказался на чужой личной территории. – Требует тренировок в вашем спортзале. А прочая память молчит.
Информацию о требованиях идеомоторной памяти Джафар смягчил. Знал только об умении ораганизма драться – быстро и эффективно. Что, кстати, очень помогло в ситуации с просроченными продуктами в столовой. С тех пор ничем тухлым в Октагоне не кормили.
– А мне иногда кажется, – признался Лурин, – что я уже когда-то ходил по останкам всяких технических цивилизаций. И они были не древние. Я даже место помню – поселок в долине, окруженной горами.
Вот, оказывается, зачем он спрашивал. Хотел сознаться в воспоминаниях, выходящих за рамки одной жизни.
Ветер усиливался. Небо потемнело, подгоняя огромную тучу.
– Никогда не слышал о таком поселке, – вежливо заметил Джафар. Припомнив свою биографию, похожую на книгу с пустыми страницами, добавил: – Но я здесь мало о чем слышал вообще.
– Это было не здесь, – сказал Лурин. – Это был мир без Императора.
______
* М. Цветаева
Глава 5. Пересменка
– Добрый вечер.
Аня Кубик вздрогнула и резко повернулась назад.
Было одиннадцать, и она только что вымученно-веселым взглядом проводила компанию со своей бывшей работы, отъезжающую по домам. Обаятельный Олег весь позапрошлый вечер обхаживал Аню, как ценный трофей, рассказывал о глубоком понимании, на удивление ему (а кому же еще, с обидой думала сейчас Аня), возникшем между ними, намекал на свою готовность коренным образом изменить собственную жизнь, даже, вот, пригласил на собственный день рождения. Как раз сегодня этот день и отмечали всем коллективом. В процессе понимание сошло на нет, а может быть потеряло прежнюю цену: именинник разговаривал с Аней только первые пять минут, а потом ушел с мужиками пить пиво. Вечером же вызвался развозить пьяных коллег, любезно объяснивших Ане – хоть на том спасибо – как из этих «эксклюзивных» – то бишь заброшенных – заброшенных мест добраться до нормального, не эксклюзивного метро.
Станция находилась примерно в двух километрах от днюхи Олега. Ане следовало бы вызвать такси, но почему-то приложение в телефоне (усыпанном каплями растаявшего снега, с трудом удерживаемого холодными руками) машин не находило. Таксистов вокруг просто не было.
Появилось время подумать, что она сделала не так. Один раз упомянула базу Солнечное? Но почему нет? На этой базе она работала. И пока не отказывалась работать в следующий сезон. Олег приревновал? Или что? Не надо было ему в самом начале говорить, что ушла от Рейнольда.
От его поведения попахивало дешевыми манипуляциями, и именно эта дешевизна огорчала Аню даже больше, чем перспектива мерзнуть в одиночестве весь путь до метро. Значит, она не ошиблась, когда ушла в Солнечное. Как она могла об этом забыть?
И именно в этот момент прозрения, некто, бесшумно подкравшийся сзади, обратился к ней сиплым голосом.
Аня ни разу не слышала этого голос раньше. Он был какой-то поверхностный, надмирный, и словно бы серый, с тонкими, но глубокими трещинками.
Удар адреналина сбил с мысли.
Маньяк? Бандит? Запоздалый служащий закрытого заведения?
Человек стоял в двух шагах, одетый в черное длинное пальто и шляпу, почти нетронутые снегом.
Он поднял голову, позволяя ей себя разглядеть: узкое, бледное лицо, как ей показалось сначала, рябое от дерматита, светлые, почти белые глаза и бледные губы.
Таким лицом, как говорила ее бабушка, можно воду черпать, и она не запачкается.
– Здравствуйте, – осторожно отозвалась Аня. – Вы по какому вопросу?
– Вы Аня Кубик? Вы ведь работали этим летом на базе «Солнечное»? Я невольно подслушал ваш сегодняшний разговор, уж извините.
Точно. Этот бледный тип сидел за соседним столом. Один.
– Работала. А вы что хотите?
– Хочу поговорить с вами об этой базе. Вас подбросить до метро?
– Если не трудно.
– Не трудно.
Бледный улыбнулся, кивнув.
Когда Аня залезла в теплый «Мерседес» и пристегнулась, человек снял шляпу и произнёс:
– Меня зовут Вадим. И я хочу вас нанять в несколько необычном качестве. Вы согласны?
– Смотря в каком.
Вадим немного помолчал, потом повернулся к ней и сказал:
– Я – тот человек, который знает про Эйзенвилль. Точнее, про его аномалию. Потому что я, знаю, кто ее создал. Сравнительно недавно.
*
– Но это странно, – возразила Аня. – Я слышала, проход в аномалию был давно. Грибы эти тоже. Во всяком случае, так мне сказал Рейнольд.
– Они не всем рассказывают, правда? – Вадим улыбнулся. – А некоторые из вас вообще ничего не знают. Или не верят, как Борис Юрьевич.
– Ну, после наводнения-то все поверили…
– Думаю, совсем, совсем не все, – прошипел Вадим свои трескучим голосом. – Отнюдь.
Поерзав на водительском сиденье, он завел машину.
– Видите ли, – сказал он, – реальность там агрессивная. Военная часть, которая находилась на базе, заселялась уже при Воротах. И туда не разрешали ходить никому. Но солдаты бегали. Воровали ключи и уходили в самоволку. Они много знали об этой местности. Они приносили на базу документы о том, как управлять временем. И о том оружии, которое находилось внутри Октагона. Его они тоже… Знаете, как оно выглядело?
– Не знаю. Я даже что такое Октагон толком не знаю, слышала только.
– Слышала… нет, я передумал вас нанимать. Вам будет сложно. Вы слишком… слишком интроверт. Вот метро. До свидания. И, в ответ за мою любезность, хочу попросить никому не рассказывать о нашем разговоре. Особенно Рейнольду. И не упоминать мое имя.
– Э… Хорошо.
Высадив Аню, Вадим развернулся и, взметнув колесами облака снега, исчез в переулке.
Я ему не подошла, огорченно подумала Аня. Я слишком тупая. Но с другой стороны, хорошо – не планируется лишней работы. Только рыбы. И надо будет избегать Рейнольда, с ним неловко получилось. Но с другой стороны – кто он, а кто я? Апатичный мажор, музыкант, умный еще… мы не сойдемся. Мне бы кого-нибудь попроще. А о Рейнольде я буду мечтать…
– Твоя шуба похожа на снежок.
Аня обернулась. Этот голос она знала.
Радость раскрасила метель в цвета перламутра. А потом возникли стыд и неловкость. Если он знает, где она, то знает, что застал ее брошенной, хотя она говорила, что сделала правильный выбор, что она определилась, нашла любовь себе по рангу. И вот, выходит, она ошиблась. Разбилась о стекло, небо за которым было иллюзорным, а Рейнольд пришел собрать останки. Выходит… он это предвидел? И вообще, как он ее нашел?
Рэнни кивнул на припаркованный в тени черный «форд».
– Садись.
Аня помотала головой, ощутив, как снова отмерзает кончик носа. Нет, так нельзя, это позор, ты же желаешь мне счастья…
– Как ты меня нашел?
– Посмотрел расписание этих ваших дурацких праздников. Вычислил ближайшее метро. Приехал. Ждал.
– Но я могла уехать с Олегом!
– Вряд ли. Тот человек, что привез тебя сюда, не походил на Олега. Следовательно, Олег поступил так, как я и ожидал.
– Ты ожидал?
Рэнни кивнул.
– Я долго скитался и изучил много людей. Я в них разбираюсь. Кто этот человек, что подвез тебя? Твоя новая любовь навсегда?
– Нет, – Аня покраснела. – Это…
Аня не могла решить, говорить ли Рейнольду про Вадима. Раз ее просили…
– Это?
– Это просто мужик какой-то. Подвез.
– Недалеко, однако. Тебе повезло, что я не принял всерьез твои слова.
– Но я ведь ушла! – возмутилась Аня.
– И я тебя отпустил. Но теперь я, пожалуй, передумал.
Все они передумывают.
Тут Аня окончательно осознала, что на самом деле боялась вовсе не возможных капризов Рейнольда, а его… благополучия? Того, что он слишком хорош для нее? Хорошего быть не должно, хорошее – это всегда обман, за которым что-то кроется.
– Представь, – сказал он, – что тебе вдруг пришлось жить вечно. И год за годом ты теряешь мир, к которому привык. И хочешь обратно стать смертным. А потом привыкаешь терять. И даже находишь в этом некоторое удовольствие. Но в некий момент видишь себя в зеркале – усталым, живым, стареющим… и понимаешь, что счетчик запустился вновь. И что ты снова смертен. И жить осталось всего ничего…
– Я не хочу такое представлять, это слишком грустно, – сказала Аня, заметив, что сделала это с облегчением. Жизнь, в которой надо бороться, уступила место жизни, где все получается само.
Рейнольд вздохнул, схватил ее за руку и дернул на себя.
Скользкие ступени. Только б не упасть. Но упасть он не позволил, подхватил.
И, подняв на руки, понес к машине.
Рейнольд? Что-то предпринял, помимо слов? Аня ничего не понимала.
*
Потрясение было настолько сильным, что пришла Аня в себя примерно тогда, когда все тот же Рейнольд, убрав с ее плеча хвост своих холодных волос, еще не высохших после метели, приподнялся и упал рядом на кровать.
– Там прихожей коробка, – сказал он, закрывая глаза. – Бабушкин сервиз. Разбери и поставь на полку. Не разбей только ничего.
– Завтра?
– Прямо сейчас.
Аня приподнялась. Она не ощущала боли, видела только, что рот кровил, искусанный. И сама будто в мясорубке побывала. Наверно, так в аду общаются с демонами. Это могло бы трактоваться как насилие, если бы Аня возражала. Но она была настолько озадачена цепью предшествующих событий, что аргументов не нашла. Правда, трудно было поверить, что Рэнни способен прямо с порога, без пауз и каких-нибудь слов завалить возвращенную подругу на кровать. Он оказался очень сильным, этот Рейнольд Клемански. Тощий, но сильный, и это было приятно. Он впервые на ее памяти знал, чего хотел.
Аня не возражала еще и потому, что происходящее отвлекало ее от горькой обиды на Олега, даже имело некоторый сладкий привкус мести и возвращения упавшей было самооценки. Кому может быть неприятно, когда его ТАК хотят?
В общем, вышло все на удивление неплохо, только вот ТАКОГО Рейнольда она еще не видела. Внешне он остался прежним, таким же бледным и костлявым, с тем же лиричным, ярко иконописным лицом. Правда, выражение этого лица поменялось – стало более жестким.
Ладно, распакуем сервиз.
Накинув халат, Аня прошла в прихожую, где обнаружила означенную коробку. Коробка ехала не с ними – видимо, прибыла ранее.
Открыв, Аня засмотрелась – фигурный фарфор, на синем туманном фоне – бурые со светящимися зеленоватыми пятнами округлые бабочки, уютные, как детские картинки. Простые, но чарующие. Чашки с блюдцами, тарелки, соусница. Сахарница и чайник. Странные серебряные вилки, похожие на миниатюрные копии посейдонова трезубца. И ударил Посейдон трезубцем о землю, и рассыпался трезубец на вилки, и упаковался в ящик.
И ложки. Их, наверно, квантовым полем притянуло.
В старом серванте, занимавшем треть гостиной, действительно сияли прозрачные, чистые полки. Заполненные прежде барахлом – фенечки, магнитики, глиняные фигурки сомнительного смысла, коробочки с чем-то зеленым и молотым – теперь радовали пустотой. Стекло вытерли, вымыли со стеклоочистителем и настроили принять сервиз.
Во время расстановки чашек Аню преследовала мысль, что ее пальцы проваливаются в фарфор и немеют.
После установки пятой тарелки появилось сильное желание отряхнуть руки, однако Аня все же потянулась за шестой – это был последний предмет.
Шестую чуть не уронила, однако та удержалась, словно бы статическим электричеством придавленная к ладони.
С облегчением закрыв сумасшедший сервант, Аня вернулась в постель.
– Расставила, – сказала она Рейнольду, который лежал и смотрел в потолок.
– Спасибо, – ответил он. – Это хороший сервиз. Бабушка ради него сожгла дом. Завтра мы с тобой подаем заявление и поженимся.
Аня аж задохнулась.
– Но ты даже не спросил!
– У тебя есть время подумать. Коробка с кольцом на тумбочке.
– Я не буду думать. Я буду спать. Вообще-то кольцо предлагают где-нибудь в ресторане…
– Где-нибудь в ресторане ты была вчера! – Рейнольд приподнялся и сел. – Тебе там никто кольца не предложил! Что было ожидаемо… И если бы я сделал так после всего, что ты заставила меня пережить, это сильно обесценило бы мое предложение. Поэтому я поменял способ. Но я не неволю. Ты можешь уйти утром.
Аня впала в ступор.
Это был совсем не тот Рейнольд, которого она знала.
Подойдя к тумбочке, она действительно увидела коробку и – какая женщина не захочет посмотреть на украшение? – открыла ее.
Внутри действительно находилось кольцо. Но не банальное, с бриллиантом, а с рубином, оплетенным сеткой, покрытой черным родием. Камень мрачно сверкал из-под нее, словно раскаленная лава из трещин остывающей серой породы.
Композиция удивительно походила на плодовое тело гриба тридериса – уж их-то Аня видела достаточно.
*
Дима Чекава смотрел этот сон девятнадцатый раз.
Он – труп. Полный мыслей и ощущений, почти живой, но всеми забытый в вентиляционном продухе одной из станций метро. Он лежит и разлагается, его восприятие огромно – позволяет даже выглянуть наружу и увидеть, как люди морщат носы и стараются побыстрее пройти между турникетами, чтобы не дышать вонью.
Дима лежит в метро уже больше года и слабо помнит, кем он был при жизни. Вроде, собой и был. Жил, работал, профессионально реализовывался.
А потом оказался трупом в метро.
– Дима! Вставай, завтрак готов!
Голос матери вернул душу в тело.
– Сейчас! – крикнул он.
– Не сейчас, а сейчас же!!! Стынет все!!!
Дима приподнялся и сел на кровати. Голова кружилась. Трупный запах, казалось, пропитал всю комнату.
– Ну сейчас приду…
– Не забудь умыться и почистить зубы! Носки новые, я их тебе купила, где они? И майку смени, твоя выглядит так, словно ей полы мыли!
Чтобы не слушать это непрерывное тарахтение, Дима поплелся в ванную. Включил воду – типа он умывается – а сам попытался до проснуться и мысленно вылезти из метро. Каждая итерация сна затягивала его все глубже, погружая в такие подробности, которые он не хотел знать.
А поутру еще мать. Ее визгливый голос резал, как нож.
Надо было жениться и съехать от родаков, но почему-то все девушки, с которыми он встречался, рано или поздно устраивали ему скандал и уходили. Он изо всех сил старался убедить их в своей ценности – что он всем нравится, что если они не поторопятся, то потеряют свой шанс на Диму, что ему ничего не стоит очаровать любую – он специально это демонстрировал – а девушки почему-то этим шансом пренебрегали и бросали его. И это убивало. А еще заставляло жить с родителями, потому что родители обещали ему квартиру только если он женится.
Последние два месяца стали для него дополнительным испытанием – попробуй всю ночь ощущать отчаяние и просыпаться в таком настроении, словно ты действительно мертв. Это больно и мучительно, это лишает сил жить и настраивает пить антидепрессанты, которые приходилось прятать от родителей потому что «глупости все это» и «наш сын – не псих».
Да, думал Чекава, ваш сын не псих. Он – труп в вентиляции, вот он кто. У него пересменка между жизнями. Каждую ночь. И он никак не попрощается с прежним собой и не станет новым.
После завтрака, пока мать мыла посуду, а отец собрался на работу, Дима решился.
У него не было друзей. Были приятели из школы, были знакомые с разных работ, были девушки – предыдущие и подходящие, которыми следовало бы заняться. Но людей, которые могли бы объяснить дурацкие сны, у него точно не было. Девушки, конечно, более мистически настроены, чем парни, но его подруги только посмеялись бы над ним.