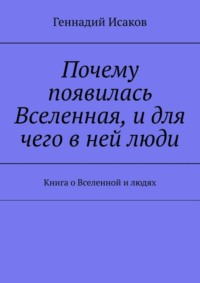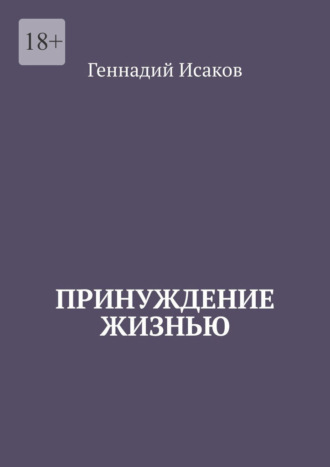
Полная версия
Принуждение жизнью

Принуждение жизнью
Геннадий Исаков
Редактор Анатолий Анимица
© Геннадий Исаков, 2025
ISBN 978-5-0067-6950-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

1947 год Автор в детстве с сестрой Галиной
.

2025 год. Они же спустя 78 лет.
«Жизнь заставит разобраться, и не только заставит, но и силком толкнет на
какую-нибудь сторону».
Михаил Шолохов
Введение
У каждого человека в жизни немало было встреч, немало было выслушано слов, по большей части ненужных, маловажных, но обязательно среди них найдутся такие, которые надолго оставят свой след.
Надолго во мне оставили свой след слова матери: жизнь научит, жизнь заставит. Слова интриговали. Чему она должна учить? Чему заставлять? Как она будет это делать?
Жизнь – поразительно странное явление.
Жизнь – мгновение в жизни мироздания, пришел малыш из небытия в эту жизнь, помучался, порадовался, что-то поделал и ушел обратно в небытие. Что теперь проку ему от прожитого и сделанного? Какой ему был смысл всё это испытывать, создавать, любить, мечтать о счастье, страдать, если в своей вечности небытия он даже не заметит этого? Было небытие, вдруг скачок в жизнь, практически на мгновение, и снова небытие, вечность ликвидирует скачок. Пришел другой, помучился, порадовался в той среде, что предыдущий смертный ему оставил, и тоже ушел в небытие. А у новенького какой был смысл приходить сюда, если надо уходить обратно? Кипит котел жизни, пока продолжаются такие бессмысленные выплески. Для каждого круг замыкается, ничего ему не оставляя. Голым пришел, голым ушел.
Люди озабочены продолжением рода, а зачем? Чтоб новые малыши сделали такой же бессмысленный круг? Но, говорят, зато они будут жить лучше нас. Своим трудом мы избавим их от тех страданий, которые достались на нашу долю.
Не надо обманывать себя. Когда бы люди ни жили, в прошлом или в будущем жить будут, всегда у них были и будут свои радости и горести. Горе и счастье все ощущают одинаково, когда бы они ни жили, и какими бы они ни были. Изменятся условия жизни, но они всё равно появятся у каждого. Разными были и будут радости и огорчения, но для каждого они всегда настоящие, неповторимые и всегда проблемные. По этому показателю сделать жизнь лучше невозможно.
Так в чем же смысл жизни?
Может он заключается в последствиях дел человеческих, остающихся в мироздании? Ведь, проживая жизни, они вносят в него изменения. Может в этих изменениях есть смысл?
А какая польза мирозданию от этих изменений? По Библии его однажды создал бог. Это странно. Что это вдруг с ним стряслось? Какая причина? Спал вечность и вот приспичило. Да и зачем это ему понадобилось? Авторы Библии ответа не дали. А вот земля понадобилась, якобы, для заселения её людьми. Ну, а они для чего ему понадобилось? Опять ответа нет. Ну, и какая польза богу от изменения людьми созданного им мироздания? Ведь он мог сделать его каким угодно. И тут ответа нет.
Может наука знает ответ? Наука утверждает, что мироздание однажды случайно образовалось от какого-то мощного взрыва в пустоте. Раздулось, расширяется и потом погибнет, то ли уравняв все температуры, то ли рассыпавшись равномерно по всему пространству. Тогда люди в нем зачем? Ни зачем. Как однажды случайно появилось мироздание и потом исчезнет, так же случайно появляются люди и исчезают. Тогда для чего они в мироздании? Ни для чего, они ему совершенно не нужны. У мироздания своя независимая от людей судьба.
Можем выдвинуть предположение, что мироздание состоит из двух частей – материальной части, которую можно видеть, измерять, и нематериальной, наполненной разумом, сознанием, и, если в материальном мире смысла человеческой жизни не удаётся обнаружить, то он, может быть, присутствует в нематериальном мире. Что в эту часть может внести человек? Он может внести мораль, состоящую из разумных принципов жизни. А как определить, что морально и что аморально? Как не перепутать добро со злом? Ведь нет единой морали для всех.
По одной морали нельзя обманывать и грабить, по другой морали вполне допустимо. По одной морали все равны, по другой совсем наоборот.
Где же истина? Откуда взяться верной морали?
Церковь утверждает – от бога. Бог диктует верные правила морали, потому что бог есть любовь и желает всем добра. От любви надо отталкиваться.
Только странная у бога любовь. Вечность в небытие пребывали люди, вечность горя не знали, как, может, и радостей не ведали. И вот бог по непонятной причине принялся вытаскивать их поочередно в эту жизнь, и устраивать им испытания. Выдал им наказы и потребовал соблюдения. И тут же подсунул провокатора – искусителя. А дальше из серии садизмов: обратно уже никому хода не будет, а впереди ожидают пыточные камеры, под названием рай и ад. В раю предстоят пытки безысходной тоской и скукой из-за бессмысленного вечного существования. Этим пыткам будут подвергнуты те, кто пройдет испытания. А не прошедшим уготована дорога в ад, где их будут жарить в огне, причем вечно. Ну, а какой смысл во всем этом?
Зачем эта экзекуция понадобилась богу? – не известно. Однако, описанная ситуация наводит на мысль, что под любовью понимается бессмысленная жестокость, и, соответственно, под моралью – аморальность.
Часто в качестве источника морали упоминают заповеди Христа, описанные в Евангелие. Но для них не дается никаких обоснований, что вызывает скептическое к ним отношение.
Становится понятным, что для решения вопроса о смысле жизни обращение к морали бесполезно.
А что говорят философы по этому поводу? По этому поводу они ничего не говорят. Философами называют тех, кто предлагает или некое направление мышления, или представление об устройстве мира, общества, свои мнения о правилах мышления, этики и морали, мнения о происходящих событиях. Но никто из них до сих пор не смог предложить сколь нибудь обоснованной теории о смысле жизни. Было много попыток, но результата не принесли. Любой вариант ответа уничтожался неизбежным вопросом, а это для чего нужно, какой в этом смысл? Любая логическая цепь, преследуемая этим вопросом, заходила в тупик.
Захлопнул крышкой все попытки философов найти ответ на каверзный вопрос один древний мыслитель такими грустными словами:
«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме;
и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.
Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и томление духа!
Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.
Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.
И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это – томление духа;
потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».
Поскольку ответ на вопрос о смысле жизни оказался окруженным неприступной крепостью, штурмом было не пробиться, были предприняты попытки совершить подкоп. Философы решили разобраться с базовым вопросом, что такое жизнь. Но и тут не удалось найти аргументированного ответа. Подкоп не получился.
Аристотель говорил, что жизнь – это «питание, рост и одряхление» организма; А. Л. Лавуазье определял жизнь как «химическую функцию»; Г. Р. Тревиранус считал, что жизнь есть «стойкое единообразие процессов при различии внешних влияний». А. И. Опарин определял жизнь как «особую, очень сложную форму движения материи».
Ф. Энгельс писал: «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого является обмен веществом и энергией с окружающей средой».
Дошли до такого: «жизнь – это макромолекулярная открытая система, которой свойственны иерархическая организация, способность к самовоспроизведению, самосохранению и саморегуляции, обмен веществ, тонко регулируемый поток энергии».
Можно много найти определений, но все они обладают одним и тем же изъяном, который обесценивает их. Это неверно выбранный способ определения. Все авторы выбирали одинаковый способ – это способ субъективного представления на базе имеющихся у них личных знаний. Субъективность, – вот главный порок.
Однажды Протагор написал: «Человек есть мера всех вещей: действительных в том, что они действительны, недействительных в том, что они недействительны».
Из этой фразы следует, что человек всё по себе мерит. Он для всего есть мера. Что он ощущает, то существует, а если нет – то этого нет. Следом Платон писал: объективной истины не существует, для всякого верны только его собственные утверждения и ощущения. И добавлял: человек, а не бог является критерием истины (действительности) и законодателем в сфере моральных и правовых ценностей.
Бога нет, человек заменил бога. Не бог, а человек революцией или контрреволюцией свергает один образ жизни и навязывает другой, он утверждает правовые и моральные нормы, и предлагает людям или тоталитарную диктатуру тех или иных правил, или демократический их выбор, подвергая, однако, избирателей тотальной психологической обработке.
Даже наука полна субъективных мнений, оставив объективности только выведенные опытном путем законы природы, которые, строго говоря, верными могут считаться только там и тогда, где и когда были выведены, и не могут распространяться на иные пространства и времена.
Получается, что в море загадок и предположений объективным знаниям выделен крошечный остров. И в нем не нашлось места для объективного понимания жизни.
Чтобы отойти от порока субъективности при попытках выработки определений, необходимо исходить не из субъективных мнений, а из объективно действующих в мироздании правил, фиксируемых в виде аксиом. Аксиомами могут считаться только такие правила, которые не меняются ни во времени, ни в пространстве.
Такой аксиомой может служить утверждение, что ничего не возникает без причины, и всё существующее и происходящее производит следствие. Все цепочки причин и следствий приведут всю систему к некоему конечному состоянию, и достижение его будет считаться целью.
Мироздание со всей своей историей можно рассматривать, как замкнутую на себя систему действий, полностью изолированную, а в такой системе целевой задачей всех действий является устранение причины, их вызвавшей. То есть конечная цель направлена на устранение первичной причины.
А если такая цель существует, то всё сущее организовано вселенским механизмом только для того, чтобы каждое порождение, реализуя своё частное предназначение, способствовало достижению общей цели. Предназначение есть у звезд, у планет, у каждой былинки есть, есть и у каждого человека.
Следовательно, универсальным определением жизни вообще может быть такое.
«Жизнь, это совмещение специально созданных структур и процедур в реальном окружении для решения определенных задач».
Человеческая жизнь в этом случае становится способом выполнения каждым своего предназначения.
Напомню слова Екклесиаста: «это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим». А это и будет смыслом жизни.
Надо сразу сказать, что предназначение никогда не дается сразу для осознания его носителем, но проявляется в его способностях, призвании. Человек его не знает, но знает организатор человеческой жизни, и он так выстраивает жизненные события, зависимые от человека или не зависимые от него, что он, чем бы ни занимался, невольно его реализует. Жизнь вынуждает человека это делать, хотя он не догадывается об этом. Даже когда выполняет свои желания, то и тогда не знает, какие силы вызвали в нем эти желания и для чего. А они будут направлены на это же.
Эта книга написана с целью демонстрации механизма формирования человеческой судьбы.
В ней я представлю основные перипетии моей жизни, как целенаправленную систему принуждения, заставляющую и способствующую выполнения мной предусмотренного для меня предназначения. В последовательности описанных событий есть отдельные блоки со своими задачами, и я буду давать подсказки относительно них.
Полезно знать, жизнь иногда специально создает эпизоды, предназначенные донести до человека задание или подсказку, чем ему следует заниматься, в каком направлении надлежит двигаться. У меня их было много.
Приведу пример одного такого эпизода – подсказки.
Это произошло летом перед заключительным десятым классом в городе Великие Луки, где жил тогда в кругу своей семьи, и по принятому тогда для себя решению купался каждый день в реке Ловать, приезжая к ней на велосипеде.
Однажды как обычно я приехал к своему месту купания, оставил на берегу велосипед, прошелся по дощатому настилу, выдвинутому в реку, до самого его конца, где обычно раздевался, и остановился. Я увидел нечто необычное. Вода была спокойной, ничего не портило её гладкую поверхность, ленивое течение медленно двигало лодку, приближая её ко мне. В ней находилась одинокая женская фигура. Голова с темными, вьющимися волосами, схваченными сзади белой лентой, наклонилась над водой, руки гладили зеркальную поверхность.
Когда лодка подплыла, уткнулась в настил, женщина выпрямила спину, откинула голову, и передо мной открылась удивительная картина. То была не женщина, юная девушка в период полного созревания.
Весь её облик выявлял в ней цыганку, только какого-то редкого вида. В ней не было никакого налета вульгарности, грубости, какой бывает у представителей её рода. Темное скуластое лицо в выдержанных пропорциях, правильные темные брови, угольные огромные глаза, аккуратный носик, на щеках легкий румянец, припухшие чувственные губы. От неё веяло экзотикой юга и изысканностью востока. Она являла собой образец какой-то особой, пронзительной красоты. На ней было светлое платье в огромных цветах, на плечах черный пиджак мужского покроя. И никаких украшений.
Она посмотрела на меня и опустила взгляд вниз.
Про себя я отметил, что темноволосой смуглой красавице явно не хватает венка на голове из белых лилий. Она смотрела в воду, словно что-то выискивала в ней.
– Их там нет, – почти автоматически сказал я.
– Да вот же они, – ответила, – плывут по воде, видишь, я трогаю их руками.
Погладила поверхность.
Я присмотрелся и увидел отражение плывущих по небу белых облаков, схожих с большими цветами.
По спине пробежал холодок. Цыганка явно читала мои мысли. Это выглядело таинственным, даже мистическим проникновением.
– Но ты не сможешь их собрать.
– Все цветы принадлежат небу.
– Но как же тогда сплести венок?
Она встала, протянула мне руку. Я взял её и помог выйти с лодки на настил.
Она выпрямилась, склонила голову и медленно побрела к берегу. В этом была какая-то обреченность. Я привязал лодку к колышку цепочкой, что лежала в лодке, и пошел за ней.
– На могилах лежат венки, – тихо проговорила.
Вот она уже идет по аллее парка, трогает листья.
Я так же тихо спросил.
– Что за печаль у тебя на сердце?
– Я завтра уже уйду из этого мира.
– Куда же ты уйдешь?
– Завтра отдадут меня замуж. И увезут в чужие края.
– Но ты для этого слишком юна.
– У цыган свои законы, давно уж выбран мне жених.
– Ты видела его?
– Судьбу не видят, она приходит выбранной не нами. И ничего нельзя поделать.
– А почему ты не откажешься, если не хочешь?
– Тогда пострадает вся моя семья. Я не могу пойти на это.
Я вел велосипед, у меня сжималось сердце, оно тянулось к ней, хотелось обнять её руками, но руки только крепче сжимали руль.
– А что ты искала на реке?
– То, чего нет в людях. Но есть в реке, в цветах, лесах, горах, в природе.
– И что же это?
– Ум, душа и красота.
– А что же в людях?
– Пустота.
– Зачем тебе всё это нужно?
Я сразу понял, что спросил глупость, потому что она отстранилась и посмотрела на меня с удивлением.
– Как? Разве ты не знаешь? Без этого несчастной будет жизнь, и смерть придет в мученьях. Разве ты не видишь, как живут и умирают пустые люди?
Мы подходили к улице, застроенной небольшими белыми домиками.
– Тут мой дом, – промолвила, – теперь прощай. Дальше тебе нельзя.
Я остановился, она медленно стала удаляться.
– Цыганка, – закричал я, она повернулась ко мне, и мне показалось, что небывалой своей красотой она сливается с небом, – цыганка, а я найду душу, ум и красоту?
Она улыбнулась, ничего не сказала, а только подняла руки к небу, где плыли лилии облаков, обвела руками, словно схватила их в охапку, и бросила мне. Отвернулась и ушла. Больше я её не видел, но её слова остались в памяти, вспоминались, как некие ориентиры в моих мыслях и делах.
Всю человеческую жизнь можно разбить на три периода, которые, хотя и связаны между собой причинно-следственными цепочками, тем не менее, имеют свои специфические особенности.
Особенности каждого периода настолько существенные, что с некоторой степенью условности можно принять их пройденными разными людьми в разных условиях.
Поэтому своё повествование разобью на три главы, в которых будут описаны события и мысли как бы трех разных людей, помещенных в разные периоды жизни.
На первом периоде жизни, охватывающем детство и юность, основными задачами являются формирование личности и подготовка к самостоятельной взрослой жизни.
На втором периоде, посвященном активной и трудовой деятельностью, помимо задач жизнеобеспечения и продолжения рода, стоят задачи реализации знаний и их пополнения через проникновение в глубины сущностей и явлений.
На третьем, когда приходит старость – задачи осмысления накопленных знаний и представлений, формирование выводов и подведение итогов.
В настоящее время широко распространено заблуждение, будто старость, это только процесс увядания, совершенно бесполезный, будто вся жизнь была в прошлом, она ушла и наступившая старость представляет собой своеобразную крышку гроба, наполненному воспоминаний. Автор предостерегает от этого заблуждения. На самом деле конца жизни не существует, есть только переходы души из одного уровня жизни на другой, более высокий. За земной жизнью после выхода души из одряхлевшего и уже ненужного тела следует новая жизнь, рассчитанная на миллиарды лет в космическом пространстве. Там будут новые задачи и новые проблемы, к которым души готовились всю земную жизнь. Там будет основная часть из всех периодов жизни. Потому старость, это период сосредоточения, какой бывает у выпускника из школы.
Глава первая. Детство и юность
Эта глава о том, как происходила подготовка меня к выполнению моего главного предназначения. При подготовке потребовалось выполнить следующее:
1. Вывести меня из-под влияния принятых в обществе знаний, понятий и представлений, то есть изолировать от жизни общества.
2. Толкнуть на составление персональных, необходимых для предстоящих задач знаний, понятий и представлений, отличных от общепринятых. Если источник общепринятых знаний находился в реальном мире, то для меня источником полагался потусторонний мир. Для налаживания контакта с ним потребовалось выработать ощущение границы с потусторонним миром, для чего было проведено ознакомление со смертью и её границей.
3. Выработать образное мышление, крепкий характер, волю, бесстрашие и разумность во всех делах.
Теперь, как это происходило.
Я родился в начале войны в глухой деревне на псковской земле, в избе, где проживало семейство сестры моей матери, к которой она, будучи беременной мной, прибыла вместе с маленькой дочкой, когда отца призвали на военную службу.
Фронт дважды прокатился по нашей деревне, вначале с запада на восток, а потом обратно. Эти валы оставляли за собой руины и пепелища. Те избы, что были побольше, разбирались обеими проходившими армиями по бревну для укрепления дорог и переправы через речку, а маленькие, вросшие в землю, оставались без внимания. Мы и жили в одной из них. Это была низенькая избушка с низким входом, парой маленьких окон, в которой с давних времен находился металлический ящик с приделанной выносной трубой, приспособленный изобретательным умом и умелыми руками для отопления и приготовления еды.
С наступлением мирного времени жизнь начала налаживаться. Вернувшиеся с войны солдаты вместе с деревенскими жителями рыли землянки, восстанавливали жилища. Одиноко стоявшие русские печи, что остались от разобранных и сгоревших домов использовали для приготовления еды. Потом их разобрали на кирпичи для новых печей в новых избах. Не осталось ни скотины, ни птиц. Только бывший староста, назначенный немцами при оккупации, сумел спрятать и сохранить в дальней глухой заимке пару лошадей со всякими нужными для сельской жизни приспособлениями и атрибутами. Староста всю войну помогал, чем мог, сельчанам, потому его не выдали пришедшим потом дознавателям. На этих лошадях пахали, вручную разбрасывали сохранившиеся зерна ржи. Осенью женщины серпами жали урожай, покрывая поле снопами и копнами, а мы, мальчишки, на лошади перевозили урожай на ток, где мужчины цепами молотили соломенное богатство, выбивая зерна, проветривали, перелопачивали. Урожай получался невысокий, но выделяли часть государству, часть оставляли на следующую посевную, остальное делили по трудодням, учитывая наличие детей, стариков, инвалидов. Ловили рыбу на самодельные снасти. Деревню окружали обширные озера, соединенные быстрыми речушками, на островах водились бобры, ондатры. В качестве плавучих средств использовали «камейки», представлявшие собой пару выдолбленных корыт из толстых бревен, соединенных на торцах скобами.
Со временем в районном поселке появились администрация, магазин, там же пункт для приема шкур зверей, где их обменивали на капканы, ружья, порох, свинец. Стала развиваться охота. Уже можно было стрелять диких уток, коих в множестве расплодилось в камышовых зарослях озер.
А когда в продаже появился керосин с керосиновыми лампами, жизнь повеселела, теперь можно было коротать длинные вечера при свете фитильков. И уж совсем стало праздником, когда прибывшие из центра рабочие установили гирлянды столбов и протянули провода. В дома пришли электричество и радио.
Построили клуб, теперь в свободные вечера молодежь устраивала танцы под гармонь. Формировались пары, женились, рожали детей. Откуда-то завезли лошадей, коров, овец, свиней, птиц. Всей деревней стали строить новые просторные избы. Детей не баловали, все дети принимали посильное участие во всех хозяйственных делах. Безделья в деревне не бывает.
По очереди от одной деревни до другой отмечали престольные праздники. К ним готовились заранее. В принимающей деревне гнали хлебную самогонку на всю округу, потому что все деревни сходились на праздник, каждого надо было угостить. Гнали самогонку в лесу на кострах тайком ночью, поскольку ввиду дефицита зерна на это был запрет, и за этим следила районная милиция, однако, не очень старательно. В праздничный день с раннего утра начинали подтягиваться жители окружающих деревень, вначале самые нетерпеливые, потом семейные, с детьми, тянулись старики и старушки, все нарядные. Нарядность выражалась надетой чистой рубахой, платьем, хранившимся в сундуке, кепкой на чубе, броской косынкой. Ходили по избам, пили, собирались на площади перед гумном, плясали под гармонь, распевали частушки, устраивали кулачные бои. Словом, развлекались от души.
К религии сельчане относились, как к привычной данности. Никаких икон в избах не было, и ритуалов не проводилось, в деревнях христианство носило формальный характер, более выраженной была вера в духов, в приметы, заговоры. Словом, деревенские оставались язычниками.
Позднее я размышлял, для чего понадобилось князю Владимиру, самодуру, негодяю, как следует из писаний о нем, напрочь лишенному добродетелей, убийце брата, жестокому насильнику, уничтожать выработанную веками исконную русскую веру, проливая реки крови и повсеместно вводить чуждую русскому народу еврейскую веру в греческом её варианте.
Возможно, это ему потребовалось для утверждения повсеместного единоначалия над подвластными селениями, что позволило бы управлять ими и взимать с них единые оброки. Когда в каждом селении почитался свой ведический бог и только ему те жители служили, это было делать сложнее. Боги были разные, и не было единого начала. Получается, что смысл кровавой перестройки только в том и заключался, чтоб заменить разнообразие богов единым на всех богом, и под его покровительством всеми управлять.