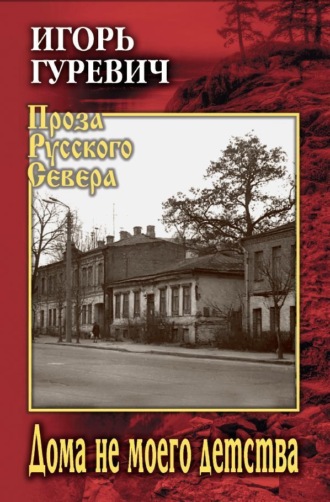
Полная версия
Дома не моего детства
Саша поймал взгляд кузнеца и с радостью бросился разъяснять: было видно, какое удовольствие доставляло ему всё происходящее вокруг. Ещё бы! Это был первый Первомай, когда ему, только что назначенному комсоргу завода, поручили организовать молодёжный агитгрузовик. Он и песню подобрал, и инсценировку, и декорацию придумал, и художников привлёк. И даже с женской капеллой «Думка» договорился. Поначалу их руководительница наотрез отказалась: «Зачем мои девочки как идиотки горло драть будут на вашем грузовике? Там и без того музыки и лозунгов хватит – из всех динамиков польются. Нас никто не услышит». – «Услышит! – убеждал Сашка. – Мы запишем ваше исполнение в студии на радиостанции. И когда наша колонна выйдет к трибунам и оттуда прокричат: “Да здравствуют труженики легендарной “Ленинской кузницы”! – из всех репродукторов зазвучит “Мы кузнецы…” в исполнении “Думки”. Что на это скажете?» Старая, тощая, высушенная временем и жизненными тревогами бывшая певичка императорской оперы, а потом баронесса… да неважно теперь, какая баронесса, просто Тамара Спиридоновна, музыкальный директор известной киевской женской капеллы, широко раскрытыми глазами, словно впервые увидела, посмотрела на юного мальчишку, светящегося от энтузиазма и собственной значимости. Подумала: «А что, этот и впрямь сможет» – и согласилась.
«Ух!» – обрадовался Сашка, удивляясь своей везучести и пробивным способностям. Но уже через пять минут после того, как выскочил счастливый от старой заносчивой карги явно из бывших аристократок, Сашка не на шутку испугался: и как же у него получится исполнить обещанное? И со студией договориться, и капеллу записать? А главное, сделать так, чтобы, когда колонна «Ленинской кузницы» поравняется с трибуной, из всех репродукторов вдоль Воровского зазвучало:
Мы кузнецы, и дух наш молод,Куем мы к счастию ключи!Но молодость не умеет отступать, поскольку шкура не драная и морда не битая. Сашка, рождённый уже при советской власти, воспитанный идейно твёрдыми родителями, даже допустить не мог, что хорошее дело не найдёт поддержку у старших товарищей. Так и вышло. Поначалу Сашкино предложение повергло секретаря заводского парткома в шок. «Да ты шо! С глузду зьихав!» – закричал тот на зарвавшегося мальчишку. Но в это время в партком по случаю заглянул старый уважаемый большевик, давно уже пенсионер, но продолжающий работать на почётной должности заводского завхоза. «Остепенись! – одёрнул он секретаря. – Хлопец дело говорит. Давай лучше подготовимся и сходим в горком к первому. Мне почему-то кажется, он поддержит». – «Да, кто ж с нами будет разговаривать?» – предпринял последнюю попытку отговориться секретарь парткома. «А мы что, не коммунисты? Для чего тогда горком, если с нами не разговаривать? – возмутился старый большевик и выдал главный аргумент: – К тому ж я член бюро горкома зазря, что ли?» После этих слов секретарь махнул рукой и сдался.
И старшие товарищи сходили в горком. Неожиданно идея не просто пришлась ко двору, а получила высокую партийную оценку как «замечательная инициатива снизу». Почин ленкузнивцев было рекомендовано распространить на все остальные трудовые коллективы, участвующие в первомайской демонстрации. Теперь каждое большое киевское предприятие должно было пройти перед трибунами под свою песню. Конечно, не к каждому производству легко можно было подобрать такую. Паровозное депо выходило, например, под песню про бронепоезд, который стоял на запасном пути. Киевскому машиностроительному заводу и вовсе было просто шагать на Первомай. Завод назывался «Большевик». Любую революционную песню бери – всё будет кстати. На этот раз решили пройти под любимую «Вихри враждебные»
А что было делать Дарницкому мясокомбинату? Про советскую колбасу песен не было, так же как их не было про мясников. Кто-то особо умный предложил песню «Едут по полю герои, Красной армии герои». На него с удивлением посмотрели: и при чём здесь мясокомбинат? «Так они ж на конях едут!» – пояснил умник. Из конины, конечно, колбасу делали вовсю, но тут уж параллели были какие-то не совсем правильные: сверху могли и не понять. Стали дальше думать – ничего толкового в голову не приходило. Решили привлечь народные массы: стали проводить рабочие собрания в цехах – думайте, товарищи, спасайте честь предприятия! И вот в колбасном цехе к начальнику подошёл лучший мастер Моисей Гуревич:
– У меня жена в капелле «Думка» поёт. Много песен знает. Так она посоветовала взять «Отречёмся от старого мира!».
– Мойша, и где ж ты тут про колбасу слова нашёл? – рассмеялся начальник.
Но Моисей, подготовленный супругой, ничуть не смутился и спокойно ответил:
– Там есть другие слова, подходящие к нам. Сейчас… – и он достал из кармана брюк сложенный вчетверо листок. Ага, вот: «Мы пойдем к нашим страждущим братьям, // Мы к голодному люду пойдём…» И ещё: «Вставай на врагов, люд голодный…» А мы как раз людей кормим.
– Слушай, в этом что-то есть! – обрадовался начальник. – А кто нам эту песню споёт для праздника?
– Жена сказала, что «Думка» может спеть.
– Так они ж уже с «Кузницей» пойдут – все знают.
– А им зачем с нами идти? Они песню на радио запишут.
– Умно! Пошли к начальству.
Так и нашлась песня для тружеников мясоперерабатывающего производства. Ну а певички из «Думки» получили премию от благодарного руководства комбината в виде полкило докторской колбасы каждой. Руководительнице капеллы достался килограмм…
Потом, после праздничного шествия, секретарю парткома «Ленинской кузницы» вручили грамоту от Киевского горкома за столь нужный почин, украсивший праздник Первого мая, и предложили директору завода выдать парторгу премию в размере среднемесячного заработка. Старому большевику, члену бюро горкома, первый секретарь лично объявил благодарность и вручил именные часы. Комсорга Сашу тоже не забыли: пригласили на заседание заводского парткома и сказали, что он молодец.
И вот после всех этих усилий Первого мая всё могло пойти коту под хвост только из-за того, что… один из кузнецов-артистов – комсомолец Б. – заболел. Вернее, запил. Потому что влюбился, а девушка объявила, что любит другого. Дурацкая история! А главное, случилась она накануне праздника. Ещё вчера утром на работе комсомолец Б. был свеж как огурчик, жизнерадостен и горд доставшимся ему важным поручением сыграть кузнеца на грузовике в инсценировке первомайской песни. Но уже сегодня, Первого мая, – ух! – сдулся, спёкся комсомолец Б. У комсорга Саши натурально случилась истерика. Однако выручил профсоюз в лице незаменимого Степаныча, который нашёл кузнеца. Настоящего! Мрачного, набыченного, но кузнеца. И главное – никуда не сбежит и не заболеет. Лишь бы только ещё согласился с голым торсом молотом на грузовике махать…
8…А потом они с Анной – Анной Сергеевной – шли по гуляющему вечернему Крещатику. Поначалу к ним пристроилась – или Анна притянула – певичка из капеллы по имени Ривка, статная, высокая, с тугой чёрной косой до пояса. Но втроём, слава богу, они прошли совсем немного: на перекрёстке с улицей Свердлова, бывшей Прорезной, Ривка вскрикнула:
– Ой! Вон и мои, – и замахала рукой коренастому мужчине с маленьким мальчиком на плечах: – Миша! Я здесь! – наспех попрощалась и чуть не бегом поспешила навстречу своим.
– Муж с сыном, – прокомментировала Анна и добавила: – Счастливая.
Последнее можно было и не говорить: без слов видно. Моисей невольно подумал: его жена к нему так не бросится. Но вот почему так грустно вслед Ривке вздохнула Анна?
И, словно отвечая на мысли Моисея, Анна сказала:
– А у меня не сложилось. Как Якова арестовали, так и не сложилось потом ни с кем…
– Какого Якова? – в душе отвергая нехорошую догадку, чуть не крикнул Моисей.
– Какого? Брата твоего. – Анна удивлённо посмотрела на Моисея и осеклась.
Он с ходу остановился, как будто натолкнулся на невидимую преграду, и тоже посмотрел ей в глаза. И они замерли так – друг напротив друга посреди тротуара. А мимо текли, бежали, прогуливались первомайские люди. Некоторые просачивались между ними. Быстрый днепровский вечер наполнял густой синевой небесную высь.
«Господи! – думала про себя Анна. – Столько лет прошло…» Сказать, что она не догадывалась тогда о чувствах юного Моньки, было бы неправдой. Отмахивалась от собственных подозрений – как от навязчивого слепня. Тем более что «младший Черняховский», так между собой с Яковом они называли Моисея, никак не проявлял очевидным образом своих чувств – цветы не дарил, знаки внимания не оказывал. Разве что краснел иногда да умолкал невпопад. Но всё это Анна списывала на юный возраст, природную стеснительность и, если хотите, элементарную необразованность: откуда мог почерпнуть мальчишка с четырьмя классами хедера приёмы обхождения с юными дамами из интеллигентного круга? Он и классику-то русскую начал читать только благодаря знакомству с ней.
Это ведь Яков, узнав, что она по собственной воле напросилась в село детей учить, сперва одобрил поступок как товарищ по партии, а потом попросил:
– Там рядом местечко есть, где все мои живут. Позанимайся, пожалуйста, с моим младшим братом. Хороший парень растёт, рукастый. Но, боюсь, без образования отец из него вырастит лишь кузнеца – в одной руке молот, в другой Талмуд. А у брата есть тяга к прекрасному и голова светлая.
Она с радостью согласилась. Ей так хотелось быть ближе к Яшиной семье! На ту пору их связывала настоящая и, как тогда было принято говорить, свободная любовь. Эсеры – товарищи по революционному делу только приветствовали такой союз, тем более что Аня и Яша не были в этом вопросе единичным примером. Что касается родни, то у Анны её попросту не было. Родители – мелкопоместные дворяне, будто списанные с гоголевских «Старосветских помещиков» – были приёмными: взяли едва народившуюся девочку после того, как её родная мать – дворовая девка то ли Агафья, то ли Аграпина, а может, и вовсе Фрося – повесилась после родов. Говорили, нагуляла от какого-то их дальнего родственника, весёлого гусара, случайно заглянувшего к ним погостить по дороге в полк, расквартированный под Винницей. Вполне обычная, пустячная история – и вспоминать нечего.
Старики в приёмной дочери души не чаяли. Растили, холили, учили. А она их звала «матушка» и «батюшка» и на «вы». Однако ж едва Анна с блеском поступила в Киевский университет – сбылась родительская мечта! – не стало сердечных. Сперва мамушка, а следом, через полгода, и отец ушли на поклон к Царю Небесному. С поместьем их случилось тоже вполне обычное в те времена дело: за долги оно оказалось в собственности у богатого и успешного в делах соседа. Сосед этот – имени вспоминать не хочется даже – стал звать Анну замуж. Сперва вроде как пожалел сироту, приехавшую в родные пенаты уладить похоронные и наследные дела. Но получил отказ и стал проявлять настойчивость, переходящую в грубые приставания с угрозами и запугиванием. Анна плакала и скрывалась от навязчивого ухажёра в соседней усадебке у таких же, как её приёмные родители, обедневших стареньких помещиков. Но те сами боялись грозного богатея, носившего почётный титул князя. Старик-сосед дрожащим голосом сообщал нерадивому жениху, приезжавшему в роскошной карете, запряжённой парой белых рысаков, о том, что Анны у них нет, и где она, они не знают. А потом на пару со своей столь же благонравной и перепуганной насмерть супругой упрашивал Анну поскорее уезжать в Киев от греха подальше.
В конце концов Анна так и поступила. Не помогло: настойчивый, огромного роста и толщины князь, вступивший в уверенный возраст пятидесятилетнего «властелина жизни», нашёл её и там. Но… но к тому времени Анна уже состояла в эсеровской ячейке и была знакома с высоким, черноволосым, кудрявым и широкоплечим красавцем Яковом Черняховским. И так вышло, что два мужчины встретились и немножко поговорили. После чего князь, даже не попрощавшись с Анной, навсегда исчез из её жизни. А через пару недель нарочный вручил Анне письмо, скреплённое родовой княжеской печатью. В письме князь кратко, без обиняков объявлял, что отзывает все свои обязательства и чтобы Анна не смела на него рассчитывать ни в каком виде, а он благодарит Всевышнего, который открыл ему глаза и отвёл от него беду оказаться мужем революционерки и «жидовской подстилки». Анна прочитала, пожала плечами, письмо порвала и выбросила, решив, что Яше показывать его вовсе ни к чему.
…В тот день она ждала, что Яша, как обычно, после субботнего ужина со своими заедет к ней, но всё случилось по-другому…
…Всякий раз сон Моисея обрывался на этом месте: они заканчивают субботний ужин, и он ложится спать с мыслью о том, что завтра во что бы то ни стало признается Анне в своих чувствах и позовёт замуж. Но едва мать успела всё убрать со стола, как на пороге хаты зашумели, затопали, заколотили в дверь – сапожищами, не иначе, – так что чуть не выбили: «Открывай!»
Моисей спросонья плохо различал всю эту толпу жандармов в синих мундирах. По дому метались тени – мать стояла в одной ночной рубахе, подняв повыше зажжённую керосиновую лампу. «Поставь на стол! – прикрикнул на неё отец. – Иди к себе. Нечего тут отсвечивать!» В спальне, разбуженная шумом, громко заверещала маленькая Таня. Ицик выглянул было из-за занавески, но мать чуть не за шиворот развернула его и увела с собой.
И только Яков, неведомо когда успевший одеться, а может, и не ложился вовсе, улыбался. А потом сказал: «Господа жандармы, довольно страху нагонять. За мной пришли, так наберитесь терпения: соберу вещи – и пойдём». – «А вы тут ехидством не занимайтесь, господин Черняховский, или, как вас там кличут, товарищ Кудря. Какие у вас здесь вещи? Налегке небось к родителям заглянули. Или, может, какие непотребные книжки для братца привезли? Так мы мигом обыск организуем. Вот и разрешение на это имеется», – вступил в разговор до того тихо стоявший у порога серый невзрачный человек в штатском.
Яшка кивнул ему, как старому знакомому: «И то ваша правда, – и назвал по имени-отчеству, Моисею теперь и не вспомнить. – В этот дом, господин следователь, ничего лишнего с собой я не вожу. И вас с компанией, надо заметить, никак не ждал». – «Ну-ну, Яков Наумович, так уж и не ждали? А встречаете при полном параде. Видно, что не ложились баиньки», – возразил следователь. Можно было подумать, что эти двое просто встретились по-дружески для доброй беседы. Сейчас ещё обменяются парой-другой любезностей и к столу за трапезу сядут. Видать, весь этот несуразный диалог произвёл умиротворяющее впечатление и на старого Черняховского, так что он вдруг предложил:
– Может, чаю?
– Чаю? – восхищенно всплеснул руками следователь и захохотал. – Чаю! Ай да кузнец Наум, ай да инородец-иноходец, иудеюшка правоверный – или православный? Да нет, какой же ты православный – это ж не про ваше племя паршивое. – И вдруг разозлился, стал себя распалять, повышая голос до крика, переходя на визг. – Это вы, поганцы, ваша Иудина кровь губит Российскую империю! Расплодили, нарожали, навыращивали революционеров-бомбометателей! Народ простой ядом инакомыслия отравляете! На власть, на императора… – и он захлебнулся в собственном крике, – на самодержца российского руку поднимаете! Моя бы воля, я бы вас с корнем…
И тут Яшка захлопал в ладоши:
– Браво! Браво, господин следователь!
– Убрать! – заверещал человек в штатском, и два высоких жандарма при ружьях вытолкали старшего брата взашей. Следом метнулся следователь, последним неспешно вышел старый толстый жандарм с пышными седыми усами – будто срисованный с лубочной картинки. Во тьме послышалось конское ржание. Потом вскрик: «На!» – и будто что-то тяжёлое упало на землю. «Брат!» – понял Моисей и бросился к дверям. Но отец будто клещами схватил его за плечо:
– Оставь! Это Яшина дорога…
9…Моисей и Анна стояли посреди первомайского Крещатика и смотрели в глаза друг другу. Он вдруг вспомнил, что тогда тоже был май. И даже не просто май – первое мая одна тысяча девятьсот девятого. И тоже была суббота, как сегодня. И была долгая ночь, которую он никак не мог досмотреть в своём сне спустя четверть века, чтобы теперь, когда… вот так… разом…
Мысли в голове Моисея стали путаться, потому что он вдруг понял ещё одну очевидную вещь: не было никакой любви со стороны Анны, и брат об этом прекрасно знал, подыгрывая ему. «Зачем?!» Ответа не было. Моисей почувствовал горечь во рту. Ему, взрослому, старому, можно сказать, мужику, повидавшему во всех видах и жизнь, и смерть, хотелось заплакать, как ребёнку, у которого отняли любимую игрушку.
Анна, словно понимая, что сейчас происходит у него в душе, взяла Моисея под руку и не спеша, поглаживая свободной рукой по плечу, повела по Крещатику среди гуляющей толпы. Она боялась, что он сейчас развернётся и уйдёт навсегда, а ей так надо было узнать о… Яше.
Они прошли молча почти квартал, когда Анна наконец-то решилась и спросила:
– А что с Яковом?
Моисей усмехнулся, крутнул головой, словно отгоняя от себя наваждение:
– Якова в Сибирь сослали. Там он и остался потом. Женился. Четверо детей у него. А недавно письмо пришло – он с братом нашим самым младшим связь поддерживает. Арестовали его…
– За что?! – вскрикнула Анна и остановилась, испуганно прикрыв рот рукой. Моисей невольно залюбовался: на мгновение показалось, что перед ним сейчас та двадцатилетняя красавица, которую он так ни разу и не назвал Аннушкой… Разве что в наивных юношеских мечтах…
– Да кто ж его знает, – спокойно ответил Моисей. – Может, как врага народа, а может, за то, что тогда, при царе, никого стоящего взорвать не сумел.
– Как ты можешь?! – закричала на него Анна.
Моисей ничего не ответил, пожал плечами. Он вдруг увидел, какая она стала с годами старая и некрасивая: лицо всё в морщинах, нервные складки в уголках губ. И – по всему видать – одиноко живёт, бездетно, без ласки мужской. Впрочем, сама о том обмолвилась.
– Рад был повстречаться. С праздником. Береги…те себя, – сказал, как глухой, будто чеканя каждую букву, и ушёл не оборачиваясь.
А она ещё долго стояла вот так посреди тротуара. Мимо по одному и парами тёк, спешил, прогуливался праздничный народ. Первомай затихал. Над Киевом загорались ночные звёзды…
10На следующий день после завтрака Ицик предложил брату:
– Мойша, давай выйдем на улицу, подышим.
Они поднялись во двор.
– Вот, – сказал Ицик и протянул конверт.
– Что это? – отпрянул Моисей. Не любил он писем – ни писать, ни получать. Что-то тревожное было в этих бумажных прямоугольниках в марках и печатях.
– Это письмо из Сибири.
– И что там? – спросил Моисей, по-прежнему не прикасаясь к конверту.
Ицик помолчал, глубоко вздохнул, словно собираясь с духом, и внятно, чуть не по складам прочитал самое главное, то ли для того, чтобы глуховатый Моисей всё хорошо расслышал, то ли чтобы самому ещё раз осознать прочитанное:
– «Ицхак, пишу тебе за брата. Ты знаешь, что его арестовали как врага народа. Сначала держали в городской тюрьме. Потом отвезли на пересылку. Оттуда должны были куда-то в Казахстан везти. Или на Таймыр, не знаю. По дороге он умер. Нам пришло извещение. Написано: по состоянию здоровья. Вот и всё. Нет больше Яши. Даст Бог, когда-нибудь свидимся с тобой и Мишей, познакомимся лично. А пока говорить больше нечего. Помяните там брата, раба Божьего. Ваша невестка Мария. Дети тоже передают поклон. Пишите, если что».
Моисея будто кувалдой ударили в грудь. Дыхание перехватило.
– Какого «раба»? – переспросил, повторяя про себя только что услышанное и не понимая до конца.
– Жена его писала. Она русская, крещёная, – пояснил Ицик.
– Значит, Яков…
– Может, и Яша.
– Да я не про то… Я про… Умер?
– Таким не шутят. И потом жена как-никак…
– Пойдём в синагогу, – сказал Моисей.
– Зачем?
– Пусть помянут как положено.
– Я не пойду, – отказался Ицик. И добавил: – К чему всё это?
– Значит, я сам схожу, – упёрся Моисей. – Да, а письмо порви и выбрось. Или ещё лучше сожги. Мало ли что.
И он пошёл через двор не оборачиваясь. До последней из оставшихся в городе полулегальной синагоги, даже и не синагоги вовсе – так, квартиры для миньяна[21] – было пешком не меньше часа.
Глава 5
Семён Милькин. Зима – весна – лето 1936 года (тевет – сиван 5696)
1Вот уже полгода, как Владлена Чос работала продавщицей в главном продуктовом магазине Киева – гастрономе на Крещатике, то есть на Воровского. Это была блатная работа, и досталась она Владке…
А зачем много говорить? Досталась и досталась – кому какое дело? Конечно, может, которые особо щепетильные, и попрекнут, мол, через одно место добыла. Так ведь если дал Господь ей такое хорошее место в придачу к миловидному лицу, крутым бёдрам и высокой груди, так дурой надо быть набитой, чтобы такой благостью не воспользоваться. А на ней ведь ещё и сын: растёт хлопец не по дням, а по часам, вот уже и ест как заправский мужик. А одежонку какую-никакую справить, обувку там? Не будет же её красивое дитё ходить словно оборванец какой. Статный мужчина растёт, крепкий, высокий: девчонки на него заглядываются, даром что двенадцать годков всего. В отцову породу. Отец у Кольки хоть и поганец был ещё тот, зато красавец писаный – кудри смоляные, глаза карие да кулак пудовый. Ну и по мужской части тоже был хорош.
Владлена толк понимала: плохонького да хлипенького до тела своего не допускала. Хотя и говорила ей Ривка-соседка: «Ты, Владка, не всякий раз на лицо да на хозяйство смотри. Хоть иногда послушай, что да как мужчина говорит. Голова-то – она для жизни полезней, чем кулаки пудовые да глотка лужёная». Владлена Ривку, конечно, уважала и нередко прислушивалась к её советам. Но в этих вопросах – уж извините! Ривке хорошо разглагольствовать: вон ей какой муж достался, всё при нём – и красивый, и сильный, и, что особенно ценно, молчун, каких свет не видывал. На Ривку свою молится и молчит, она, бывало, только бровью поведёт, а он уж подорвался с места – любую прихоть исполнит. Где ж таких, как Мойша, сыскать? Разве что среди евреев: говорят, у них принято женщину почитать, вон даже родство по матери ведут. Владлене, конечно, такой подход был невдомёк, вроде как не по правилам – всё же мужик в доме хозяин, не баба. Но женское сердце откликалось, и иной раз в мечтах своих представляла она себе этакого сладкого, губастого, с тёмным волооким взглядом и ласкового – такого ласкового, что, как представит Владлена, аж застонет – так невмоготу сделается! А что нос горбатый и висит, как слива, над верхней губой, так от этого ещё слаще: Владлена даже глаза зажмуривала, чтобы видение удержать.
И до того, видать, домечталась, что Господь распознал её желания и организовал ей встречу с Семёном-красавцем. И всё при нём, как представляла: и кудри, и глаза, и губы пухлые, ну и нос в придачу. А уж в любовных утехах какой нежный да трепетный! И на слова не скупится, и на подарки. Но другой раз, если к тому расположение у обоих будет, и силу проявить может – жёсткую, мужскую, даже бешеную. Повалит её в исступлении на кровать и возьмёт насильно. А ей только того и надо. В общем, счастье ей привалило, по-другому не скажешь.
А что Сёмушка её женат, так это кому что на роду написано. Ему вот было написано жениться на своей крови. Какие тут могут быть претензии? Она ведь и сама не без греха, а чтобы нос от удачи, выпавшей ей, воротить – она ж не дура безмозглая. Тем более что в другой раз Боженька и разозлиться может за такую неблагодарность. Так что пользуйся, баба, да радуйся. Сколько твоего веку тебе ещё осталось?
2Владлена как подумает, что Семёна в тот день могло мимо неё пронести, так вся холодным потом обольётся и крестится, если наедине с собой окажется, а потом Господа благодарит и опять крестится: «Спасибо тебе, Боже! За хлеб наш насущный, за радость дарёную!» Бестолково молится, неумело, но зато искренне. А так, чтобы по всем правилам – где ж научишься, коль времена нынче такие? Хорошо ещё, Бога не забыли вовсе. Вот и Сёмушка её с Богом тоже в ладах. Правда, со своим. Но какая разница. Откуда она знает? А он ей сам как-то сказал, что по субботам у них близких встреч не будет, потому как это грех. Владлена сразу всё поняла: про субботу она всё и так знала, на соседей своих насмотрелась, да хоть на тех же Ривку с Мойшей. Да и кто ж на Украине про субботу не знал: столько лет-веков бок о бок с евреями тёрлись. В общем, кому что на роду написано…
Да и какая разница: им и без субботы приключений хватало. Семён по городу передвигался куда хотел и когда хотел – работа такая: быть всегда начеку и контру всякую вылавливать, врагов народа разоблачать. Они ведь с ним так и познакомились. Владлена тогда в столовой посудомойкой работала. И вот в один ясный зимний день к ним нагрянули товарищи чекисты – и сразу в кабинет к директрисе. Потом только крик из-за закрытой двери был слышен – слов не различить, но понятно, что угрозы и грубости всякие. Голос мужской, зычный. Столовую, ясное дело, прикрыли, немногих посетителей, которые на тот момент оказались, повыгоняли. На выходе поставили двух молодцев – никого не выпускать и не впускать.





