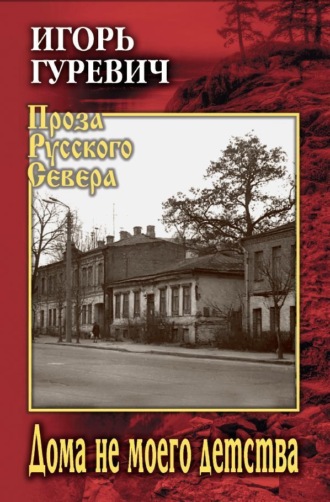
Полная версия
Дома не моего детства

Игорь Гуревич
Дома не моего детства

© Гуревич И.Д., 2023
© ООО «Издательство «Вече», 2023
© Архангельское отделение Союза писателей России, 2023

Пролог
Дом. Был ли в моей жизни тот единственный, о котором говорят «родовое гнездо»? Куда возвращаются через годы дышать воздухом старины, лелеять светлую память о предках – бабушках и дедушках, руки которых помнишь всем сердцем… Думать о родителях, выпестовавших тебя, поставивших на ноги и научивших ходить в этом доме, – строгих и любящих, единственных, неповторимых… Ощущать мамино тепло, слышать строгий голос отца – будто и не минули многие лета с той поры, когда ты был ребёнком.
А потом в этом доме лелеять-холить своих внуков и наставлять выросших детей, чтобы не забыли… сохранили… не дали разрушиться, превратиться в прах родовому гнезду…
Я вырастал, мотаясь с отцом по временным жилищам военных городков и гарнизонов, словно отрабатывая с ним, мамой и младшим братом мечту прошлых поколений вырваться за черту оседлости в большой мир, на волю.
И не было у нас родового гнезда. Так думал я – юный, горячий, стеснённый родительской опекой, приземлённый их неуёмной способностью мгновенно обживаться на новом месте, превращать дощатый соломбальский барак, или съёмный уманский дом, или общежитие для семей офицеров в СВОЙ ДОМ. Мама входила в очередную квартиру, пахнущую хлоркой, свежей побелкой, чужую, неуютную – неродную, и говорила: «Мы дома».
И мы снимались с места потом уже из СВОЕГО ДОМА, неважно, какое время мы провели в его стенах – несколько лет или полгода. Самым долгим семейным пристанищем из моего детства был многоквартирный двухэтажный барак в Архангельске, с двенадцатью соседями на этаже, огромной общей кухней и уборной прямого падения. Когда мы уезжали на новое место службы отца – первый в моей сознательной жизни переезд – я, семилетний, сидел на маленькой табуреточке-скамеечке, сколоченной отцом, и слушал-смотрел, как дребезжит печная дверца, а за ней гудит, трещит, беснуется весёлый огонь, пробивается в щели свет пламени. И мягкий жар окатывал моё лицо, сушил слёзы… Потому что я плачу. Я не хочу никуда отсюда уезжать…
Потом я уже не плакал – становился старше, привыкая к перемене мест. И всё равно грустил всякий раз, когда мы уезжали из СВОЕГО ДОМА.
Так они все – Архангельск, Умань, Петровцы, Киев – и остались в памяти домом моего детства, деревянным и каменным, с высокими потолками и приземистым, светлым и тёмным, но всегда тёплым оттого, что родным. В этом большом моём доме, похожем на волшебный замок с множеством коридоров, анфилад, дверей, лестниц и окон, с печным и центральным отоплением, с газовыми плитами и примусами, с книжными стеллажами и старыми буфетами, венгерскими стенками и самодельными полками, – в этом Хогвартсе моей памяти были не только родительские квартиры, но и полуподвал, а потом трёхкомнатная квартира, где жили моя бабушка Геня и семья моей тёти Эти – маминой сестры, комнаты с высокими потолками папиных родителей – Ривы и Моисея Гуревичей, и десятиметровая комнатушка в новом многоэтажном доме в Дарницком районе Киева, где дед прожил двадцать лет после бабушкиной смерти.
Всё это был ДОМ МОЕГО ДЕТСТВА. С годами он всё явственней проступает в моей памяти.
Но как же я рвался на свободу! Как хотел нарушить эту черту родительской оседлости! И когда родители обустроили новую, с иголочки, огромную по нашим непривычным к многометровой роскоши меркам трёхкомнатную киевскую квартиру, полученную отцом за заслуги перед Отечеством после безупречной офицерской службы в рядах Советской армии, когда мама сказала: «Наконец-то!» – и стала строить планы моей оседлости в Киеве после окончания школы, я, получив аттестат зрелости, сказал: «До свидания!» – и отправился, полетел осваивать большой мир.
И стал строить свой ДОМ, меняя среду обитания, поднимая детей, расставаясь с жёнами, достигая высот и кувыркаясь вниз, сколачивая богатство и «обнуляясь» в соответствии с «политической ситуацией и экономическим кризисом».
Я закрываю глаза – вспоминая. Общежитие было? Было. Дом был? А как же! И не один, если считать не только постоянное жильё, но и дачи. И барак семейный был: куда деваться – привычка с детства! Квартира? Были – одна и вторая, третья, четвёртая.
Выходит, что детям своим я тоже оставляю дом только как память, а не как место на земле? Выходит, что так.
Но в каком бы жилище ни пребывало моё тело, я строил СВОЙ ДОМ. И только с годами, только сейчас, с поседевшей бородой, я обрёл осознание того, какую великую тягу к СВОЕМУ ДОМУ передали мне мои предки через поколения, через моих родителей, выросших в военное лихолетье, хлебнувших мытарств полной чашей, но всегда ставивших превыше всего СВОЙ ДОМ – тот, что есть семья, очаг и любовь. Все они – бабушки и прабабушки мои, деды и прадеды, многодетные, многотрудные и жестоковыйные, как истые евреи из черты оседлости, – все они мечтали о свободе, о воле, но строили СВОЙ ДОМ – свою крепость, свою личную черту оседлости, узнаваемую, родную. Так, чтобы детям было хорошо, чтобы внуки могли войти в дом – всё равно, барак это или полуподвал, времянка в чистом поле или товарный вагон, – могли войти и сказать: «Я дома».
Они входили в предложенное им временем и обстоятельствами место обитания и говорили: «Мы дома». Входили на год, на месяц, на неделю – как Господь положит! – а обживали на века.
МОЙ ДОМ начался задолго до моего рождения. Я бы не построил его без них – моих родных, моих единокровных, без их опыта и непоколебимой воли жить и выживать вопреки времени и обстоятельствам, во имя того, чтобы когда-нибудь на белый свет появился я.
Пришло время поклониться им в пояс, до земли. Спасибо, родные мои!
Пришло время вспомнить ДОМА НЕ МОЕГО ДЕТСТВА.
Том 1
Родительский мир
Часть 1
Дела семейные
Киев, 1934–1935 гг. (11 тишрея – 19 таммуза 5695 г.)
Глава 1
Дом на улице Пролетарской (С 1936‑го – Горького). Сентябрь 1934 года (тишрей 5695)
Ребёнок кричал громко. Не просто громко, а очень громко.
– Рива! Он так кричит, как будто иерихонская труба.
– Зоечка, чтоб вы были нам здоровы. Какая ж это труба? Это замечательный мальчик, и он таки будет петь, когда вырастет, – высокая, статная Ривка светилась от радости. А младенец, спелёнатый по всем правилам – а как иначе, ведь не первый, – сморщив смуглое личико, орал во всю мощь своих маленьких лёгких.
– Ну так есть в кого. Зря, что ли, мама в «Думке» с восемнадцати лет поёт.
– И заметьте, соседи, а капелла!
За окнами просторной, в два окна, разделённой пополам комнаты багровел, золотился листвой каштанов и дубов киевский сентябрь. В открытые окна пытались прорваться звонкие голоса играющей во дворе ребятни, но тут же перекрывались оглушающим криком новорождённого.
– Буська! Ну у тебя брательник даёт. Так и мёртвых с Байково разбудит.
– Ты что мелешь?! – и восьмилетний крепыш, старший Ривкин сын, не церемонясь даёт подзатыльник пацану, который заметно старше него.
– Да ладно тебе! – без обиды и не желая связываться с насупившимся Буськой, отвечает шутник. Во дворе все знают: у Абраши Гуревича характер суровый, а рука крепкая. Весь в отца пошёл – силой и немногословием. И при этом такой же добрый и щедрый: друг попросит – отдаст последнее. Не жадоба, даром что еврей.
– Буська, ты точно будешь хорошим защитником брату своему. Как, кстати, назвали? – примирительно говорит Колька, почёсывая затылок.
Вообще-то Колька Чос отличный товарищ, друг, можно сказать: если что, он за Буську кого хочешь порвёт. Он и всяким таким штучкам пацанским потихоньку малого учит: как-никак на два года старше. Вот только язык Кольку порой подводит: бывает, ляпнет что-нибудь – даже сам испугается. Колькина мать, весёлая пышногрудая Владлена, так и говорит: «Сгинешь ты, Колька, когда-нибудь за язык твой поганый. Як батька твой згынув, упокой его душу, Господи!» – и крестится скоро и мелко.
Буська как-то спросил кореша: «А что у тебя маму так зовут?» – «Как так?» – обиделся Колька. – «Ну, не похоже на других». – «А Ривка – что, похоже?» – «Ты совсем дурак, Колька? – возмутился Буська. – Пока нашу улицу до конца пройдёшь, десять тётенек и девчонок с таким именем встретишь. А Владлен сколько?» – «Тут ты прав, конечно, – согласился Колька. – Одна она у меня такая. Говорила, что её в честь Ленина назвали. Владимир Ленин – Владлена». Другой бы кто поверил, но Буську на такой глупости не проведёшь: он не только драться умел, но и учился хорошо, особенно по арифметике, в отличие от Кольки. – «Чё ты брешешь? Ленин – он когда стал вождём? В 1917 году. А мамке твоей сколько лет?» – «Ну, тридцать». – «Вот. Отними от сегодняшнего, что выходит?» – «Что?» – «Одна тысяча девятьсот четвёртый, вот что! Так что какой тут Ленин?» Тут Колька вскипел, чуть не задохнулся: «Ты что же, думаешь, Ленин младенцем, что ли, революцию делал?! Ты ж про его биографию учил в школе. Он же эту революцию сколько лет готовил! А мои дед с бабкой, может, его… этими… как их… его собратниками были». Буська посмотрел на Кольку как на чумного, и рукой махнул: что с дурня возьмёшь? Хорошо, Владлена ту их беседу не слышала, а родители её, Колькины бабка и дед, ещё в Гражданскую погибли: по случайности попали под перекрёстный огонь то ли красных с белыми, то ли зелёных с такими же серо-буро-малиновыми. Так что некому было ни подтвердить, ни опровергнуть Колькины слова. Да и в конце концов, какая разница пацанам, с какого перепугу их мам так назвали – кого Владленой, а кого Ривкой? Мама она и есть мама. А для Кольки вдвойне, потому как, кроме мамы, у него никого не было.
– Так как братишку назвали? – повторил свой вопрос Колька.
– Ну чего ты пристал, – отмахнулся Буська. – Он только вчера родился.
– Ты чё, не знаешь, как брата зовут? Вот если бы у меня брат родился…
– Вот заладил: «у меня, у меня»! Сейчас у мамы спрошу. Только дождусь, когда этот крикун замолкнет.
Между тем младенец притих и стал насупленно оглядывать соседей и родственников, пришедших на смотрины. Впрочем, кого он там мог рассмотреть, двух дней от роду? Нахмурил брови и сопел. Главное, что молчал.
– Ух! Слава богу, притих, – невольно выдохнула Владлена, тоже заглянувшая к Гуревичам по-соседски посмотреть на нового жителя Земли.
Что ни говори, не такое уж частое это событие в их трёхэтажном доме. Это он когда-то был доходным домом, и селились в нём исключительно богатеи-эксплуататоры, а сейчас живут нормальные советские люди – порядочные и простые. Вот она, например, Владлена с фамилией, доставшейся от мужа, Чос, работает в общественной столовой посудомойкой-уборщицей. Её соседи по первому этажу – кто молотобойцем на «Ленкузне», кто грузчиком в порту, кто портным, кто сапожником. Есть даже учительница.
На верхних этажах тоже все люди обычные, не начальники. У Ривки муж Мойша работает на мясокомбинате, колбасу всякую делает, мясо рубит. Как-то поднялась к ним почаёвничать, посудачить с Ривкой на большой общей кухне, а Мойша как раз мясо разделывал, говядину, конечно, потому как евреи, они свинину не едят. Кусочек-обрезочек на кости – понятно, с работы принёс! Ладонь у Мойши широченная, пальцы – каждый обхватом как два её вместе. Но так ловко у него это получалось, будто на пианино играл.
Владлена могла сравнить, поскольку видела, как пальцами пианисты по клавишам бегают. Вернее, одну пианистку видела – Ривкину соседку Сару, которая в филармонии работала, и у неё в комнате пианино стояло. А Ривка иногда заходила к Саре – песни спивала, украинские, душевные. Ривка это называла «петь под аккомпанемент». Владлене очень нравилось слушать, иногда до слёз. Особенно когда Ривка про мать спивала: так, что сердце начинало биться и щемить, а слёзы сами из глаз вытекали и струились по щекам… Знала Ривка, что Владлена любит песни слушать живые, да и самой ей слушатель был нужен, вот и приглашала иногда на репетицию. А Сара, добрая душа, даже предлагала Владлене по клавишам пальцами пробежаться. «Пальцы у тебя, – говорила, – тонкие, длинные. В самый раз для фортепьяно». Но Владлена смущалась и никак не могла решиться коснуться дорогого инструмента…
– Мама! – в наступившей тишине с улицы в комнату ворвался крик.
Ривка вышла на балкон с чугунной узорчатой оградкой:
– Чего тебе, Абраша? Поднимайся домой.
– Не, я ещё с хлопцами погуляю. Мама, а как брата назвали?
– Я ж тебе говорила.
– Так я забыл. Скажи ещё раз, я запомню. Вот и Колька, если что, запомнит.
Ривка улыбнулась: каким славным растёт её Абраша. Шкодливый, конечно. Но это ж мальчик – как по-другому? А душой открытый, добрый и искренний. Только бы вырос не таким мягким, как его отец, на котором все кому не лень воду возят: «Миша, помоги. Миша, принеси. Миша, одолжи. Миша, выйди во вторую смену…»
Ой, вей! Когда б не взяла она с самого начала в свои руки деньги и хозяйство, так бы без штанов всей семьёй и ходили по Киеву. А так – счастье Мойше, что ему жена такая досталась: в доме порядок, наготовлено что покушать. А ему и забот нет: ухожен, одет в чистое да отремонтированное, если случайная прореха появилась, накормлен, а заболеет, так и вылечат дома – потому как в том, какие лекарства и когда нужны, Ривка тоже хорошо разбирается. И про деньги у Мойши голова не болит: как стал с первого дня отдавать весь заработок, так и живёт не тужит. На работу пойдёт, Ривка выдаст ему сколько надо, да ещё обед с собой в баночке – котлеточку с картошечкой или пулочку куриную.
А если куда надо потратиться, там на вещь, в хозяйстве нужную, на подарок родственнику или товарищу, только скажи, Ривка посчитает, прикинет и выделит сколько надо. Да и что душой кривить, муж у неё сам не транжира, не пьяница, лишнего из дома не вынесет. А что с деньгами управляться не умеет, так в семье это не мужское дело. Мужчина должен зарабатывать и защищать. Это распределение ролей Ривка усвоила ещё в далёком детстве и, рано осиротев, всегда мечтала, чтобы у неё семья вышла правильная, крепкая. И была она уверена в том, что так может сложиться, только если женщина дом вести будет. В конце концов, разве не об этом в Торе сказано: «Да прилепится муж к жене своей»?[1]
А ещё – что Бога гневить? – помогает он Ривке удачей. Хоть она сама и не молится – на то Мойша есть, – а Бог помогает. Вот и Дэвика ей подарил – столичного жителя, не абы кого! Киеву как раз в этот год вернули право быть главным городом Украины. И правильно! Ведь не Харькову ж корону носить – с Киева вся Русь началась, не то что Украина. Так что они теперь все ничуть не хуже москвичей – спасибо Всевышнему, вразумил советскую власть! Соседи поговаривают, что теперь и льгот, и зарплат прибавят.
– Что ж, Абраша, запоминай. Твоего брата зовут … – и на этих Ривкиных словах вновь раздался такой оглушительный ор этого самого брата, что Буська так и не расслышал, как же его зовут. А мать между тем уже метнулась с балкона в комнату на громкий призыв.
– Ну что ты будешь делать! Вот же крикун! – Буська в сердцах даже ногой топнул.
– Да ты не злись. Сбегай домой, узнай имя братишки, а я пока тут подожду: мне же интересно, – и Колька подтолкнул товарища к открытым дверям подъезда.
На самом входе в дом Буська столкнулся с Колькиной матерью.
– А, Буська! Ох и громкий же у тебя братишка. Недаром мама твоя его Давидом назвала. Как царя.
– Какого царя? – оторопел Буська, не осознавая, что имя младшего брата он сейчас узнал не от матери.
– Вашего, библейского.
– Какого нашего? Какого библейского?
Тут Владлена поняла, что сболтнула лишку, и махнула рукой:
– Потом у матери спросишь, – и пошла через двор, мимоходом потрепав Кольку по короткостриженой голове. – Не бузи. Я до рынка пройдусь: сегодня воскресенье, может, капустку свежую селяне привезли да буряк. Надо борщика сварить.
Между тем Буська передумал идти домой: имя брата он теперь знает, а что там за царь за такой был, об этом потом, вечером, не у мамы, так у отца выяснит. И он вернулся к Кольке:
– Давидом его зовут.
– Это хорошо, – удовлетворённо кивнул Колька и предложил: – Пошли к соседским хлопцам. Там у Саньки мяч футбольный настоящий есть. Брат старший дал. Мяч слегка штопанный, но настоящий. Из нашего «Динамо».
– Да ты что?!
– Ну да. У Саньки ж брат там в запасных ходит. Пока, потому что ещё молодой. Но тренируется со всеми.
– Так чего ж мы стоим! Побежали!
И они умчались вихрем со двора, только пятки сверкнули. А вдогонку им раздавался громкий и протяжный – неужто и впрямь певцом будет? – крик нового человека с планеты Земля – Давида Гуревича, моего будущего отца.
Глава 2
Дом на Подоле. 14 декабря 1934 года (8 тевета 5695)
– Этя, забирай сестру – и мигом к Верке! – громким шёпотом командует Гинда[2]. Дома со своими она говорит исключительно на идиш, как привыкла с детства в своем Переяславе-Хмельницком.
Невысокая худенькая девочка лет десяти от роду хватает за руку такую же чернявую, как сама, сестрёнку, отрывая от каких-то накрученных разноцветных тряпок, заменяющих ей куклы, и чуть не волоком тащит за собой.
За стенкой, примыкающей к печи, другая комната. В ней живут дядя Ицик, папин брат, со своей женой Верой. И хоть сегодня суббота, дядя, как и отец девочек, на работе. Дядя работает грузчиком. Мама называет его «Ицик-биндюжник». Дядя на это отвечает: «Геня! У меня даже лошади нет». Гинда в ответ машет рукой: «Всё одно – биндюжник». И оба смеются.
А вот папа у девочек – кузнец на «Ленинской кузнице»[3]. Папа говорит, что это завод. Не такой большой, как имени Артёма[4], но тоже ничего. Там даже корабли делают. Папа работает на механическом молоте. Молот огромный, падает с высоты – с их дом трёхэтажный, не меньше, – и грохочет так, что папа совсем ничего не слышит. Ну или почти ничего. Во всяком случае, мама, маленькая, сухая и шустрая, всё время вынуждена кричать ему в самое ухо: «Мойша! Глухая тетеря, иди обедать!» Или: «Сходи за хлебом!»
Гинда только что рогатым ухватом подцепила чугунок с варевом из печи и поставила на стол. Дрова почти прогорели. Киевская зима хоть и мягкая, но всё одно – зима. А сегодня ещё и снег с утра сыпет. Вот уже и узкое окошко – не окошко, форточка над землёй – замело. Так что в полуподвальной комнате, и без того не светлой, царит полумрак, и Гинда вынуждена включить одинокую лампочку, свисающую с потолка посреди комнаты.
Знакомые, заглядывая к ним по каким-либо делам, нет-нет да и спросят:
– Геня, а люстру чего не купишь? Всё повеселее.
– Люстру? – переспросит та и ответит не церемонясь: – Хватит нам мамы слепой: тут и так ни черта не видать, – и для большей убедительности покажет на свою мать, старую Ханну, которая сидит себе тихонько в платочке на топчане в своём углу за печкой или на стуле у стола с бесполезными глазами, прикрытыми дряблыми веками.
Ханна на дочкины слова не обижается. Что ей обижаться? Если бы не Гинда с её бычьей выносливостью, то пошла бы она по миру побираться. Да и одна ли она? После гибели отца, единственного кормильца семьи, тринадцатилетняя Геня стала главной помощницей для ослепшей от горя Ханны. И опорой братьям и сёстрам – шести младшим и четырём старшим, которым надо было ещё учиться. Впрочем, учиться надо было всем детям. Кроме Гинды. Так уж вышло: кто-то же должен был в семье хозяйство вести.
Замуж Гинда вышла далеко за двадцать, без особой любви. А как иначе? Пока старших сестёр к мужьям пристроила да братьев женила, пока младших выучила! Генин Мойша был на десять лет её старше – разница невелика. Но уж больно нездоровый: воевал в мировую с немцами и где-то в окопах туберкулёз заработал, с тех пор всю дорогу лёгкими страдал.
Мойша Черняховский из соседнего местечка забрёл к ним случайно. Может, конечно, кто и подсказал про Гинду, он и посватался. Сам. По-простому сказал чуть не с порога: «Ханна, даёте разрешение, чтобы ваша дочка замуж за меня вышла?» А Ханна что? Геня сама себе голова: с тринадцати лет дом ведёт, и мать слепая ею не командует, а, наоборот, во всём слушается. Ханна только и сказала, чтобы мужик не слишком-то обольщался и не попрекал потом: «Она грамоты не знает – ни писать, ни читать. Ну и худа дюже – не с чего было поправляться». На такие слова Мойша разумно ответил: «Да я и сам не толстый. А грамота – дело наживное: захочет – выучится, не захочет – обойдёмся и без букв. Считать-то, я слышал, хорошо умеет». – «Да, считает она очень хорошо, лучше любого профессора», – подтвердила Ханна. «Ну вот, – обрадовался Мойша. – Значит, хозяйка справная будет. Что ещё в доме надо?» На том и порешили.
…Отправив дочек к тётке за стенку, Гинда не спеша вытерла руки о передник, отвела мать на топчан, подальше от предстоящей суеты, и пошла открывать дверь, которая давно сотрясалась под ударами кулаков и сапог. Дверь была крепкая, дубовая, с тех времён ещё, когда у купца-хозяина здесь были склады. Грохот перекрывался настойчивым криком: «Черняховская, Геня! Открывай! Мы знаем, что ты дома!»
«Ещё бы не знать! – усмехнулась про себя Гинда. – Варевом вон как пахнет – и дверь не удержит». Открыла и, ничуть не удивившись, сказала:
– Ну, здравствуй, Сеня. Что, опять с «именем революции» пришёл?
– Дошутишься у меня! – миролюбиво огрызнулся низкорослый мужичок с ромбами лейтенанта и произнёс официальным тоном, понизив голос: – Гинда Давыдовна Черняховская, по имеющимся у органов сведениям, вы занимаетесь спекуляцией и в настоящее время скрываете в доме запрещённый товар. Сейчас в присутствии понятых здесь будет произведён обыск, – и, грубо отпихнув хозяйку, скомандовал двум молодцеватым напарникам уголовного вида: – Ищите тут по-быстрому.
– Бумажку-то хоть принёс? – не переставая усмехаться, спросила Гинда.
– Тебе зачем? – удивился гэпэушник. – Всё одно читать не умеешь.
– За тебя беспокоюсь: чтобы совесть твоя была чиста.
Лейтенант подхватил хозяйку под локоть и подтащил к окну, вроде как ближе к свету, а на самом деле чтобы бойцы, занятые шмоном, и два понятых – дворник и его жена, прилипшие к стене у входа, – не слышали их разговора.
– Слушай, Геня, прекращай свои шуточки при людях. На – подавись, – и он сунул ей в руки бумагу с печатями. – Можешь Этю попросить: пусть тебе прочитает.
– Ты Этю не трогай! – Гинда мгновенно переменилась в лице. И без того худая, скуластая, она вовсе стала похожа на Бабу-ягу: зеленоватые глаза грозно сверкали из-под нахмуренных густых бровей, крючковатый нос выдался вперёд. Но минутный порыв прошёл, и хозяйка привычно взяла себя в руки. – Сеня, мы договаривались: оформляй добровольную сдачу, бери своё – и проваливай.
– Геня, я так сразу не могу. Надо для приличия обыскать.
– Какой же ты сволочь, Сеня!
– Геня, придержи язык! Я при исполнении.
– Это я ещё придержала, по-родственному.
– Ладно, много переворачивать не будем, – согласился Сеня, повернулся лицом в комнату и скомандовал бойцам, вытряхивающим на середину помещения одежду, бельё и прочий мелкий скарб: – Отбой! Спекулянтка сама всё сдаст, добровольно.
Гинда зашла за занавеску между печкой и наружной стеной, где располагалась Ханна на своём топчане и стояла кровать дочек. Под детской кроватью в коробках всё и хранилось. Лейтенант привычно остался ждать у окна. Через минуту спекулянтка вынесла два свёртка. В маленьком были деньги. В большом – мужской твидовый костюм.
– Понятые!
Дворник со старорежимной бородой-лопатой, в валенках, в шапке-ушанке и огромном, когда-то белом переднике поверх тулупа, ухмыляясь, подошёл к столу. Рядом семенила жена дворника, такая же низкорослая и худая, как Гинда. Проходя мимо хозяйки, она мелко и скоро, чтобы не заметили чекисты, перекрестилась и прошептала одними губами:
– Прости, Геня!
Но у мордатого дворника слух был отменный.
– Ну ты, жалельщица! – злобно ткнул он жену в спину. – Жидовка-воровка – с неё не убудет.
– Попридержите язык, товарищ! – оборвал дворника лейтенант.
Дворник зыркнул на гэпэушника, имеющего убедительную и потому легко распознаваемую семитскую внешность, с нависшим над губой носом и припухшими веками, и осёкся.
– Шо, Сеня, неужто вступился? Или самому не понравилось? – не преминула съязвить Гинда, перейдя на идиш.
Лейтенант побагровел и гаркнул:
– Гинда Давыдовна! Я вам говорил…
– А шо ты мне говорил? – огрызнулась Гинда уже по-русски. – Этот, – и она ткнула худым кулачком в мощную грудь дворника, – следом придёт с милицией. Я вам что, дойная корова? Очередь там хотя б какую установите, не каждую неделю шляйтесь!





