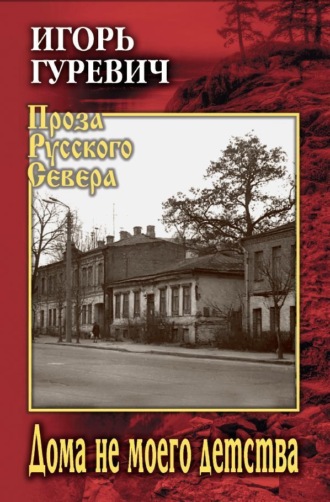
Полная версия
Дома не моего детства
– Так мы и так раз в месяц, – сказал дворник и тут же ладонью прикрыл рот: понял, что сболтнул лишнее – повёлся на Генькины провокации.
– Всё, заканчиваем: подписывайте – и валите, – скомандовал Сеня понятым, словно давая понять, что все свои.
Когда все вышли, лейтенант обратился к Гинде:
– Ладно, Геня, не сердись. Лучше так, чем совсем тебя закрыть. Сестре твоей что передать?
– Что муж у неё сволочь и идиот и что я жалею, что такого ей нашла!
– Геня! До чего ж ты вредная баба. Сколько раз тебе говорить: лучше я, чем другие. Хуже будет.
– Так ты хотя бы Хвёдора, этого паскуду с милицией, урезонил. А то повадились один за другим – в затылок друг другу дышите. Ты ж, гадина, знаешь, что мы с хлеба на воду перебиваемся. Мойша больше болеет, чем работает. Ицик тоже не весть что приносит. Вера вечно хворая. А мама? А Этю лечить с её ногой?
– Ну-ну, Геня, ты не плачь тут…
– Да хрен тебе я плакать буду, сволочь! – И Гинда оттолкнула родственника подальше от себя. – Соне передай, пусть приходит с детьми в следующую субботу. Без тебя.
– Хорошо, передам, – согласился Семён. – А с дворником разберусь: милиция будет приходить раз в три месяца, не чаще. Нормально?
Гинда ничего не сказала в ответ только махнула рукой и отвернулась, словно давая понять: аудиенция закончена. За спиной хлопнула входная дверь.
– Бедная моя девочка! – раздался из-за печки голос слепой Ханны, и зашелестела молитва.
– Мама, только давайте без этого! – прикрикнула на старуху Гинда. – Пусть пейсатые бездельники на это время тратят – может, и за нас слово скажут, хоть какая польза. Всё, пора щи доваривать: скоро Мойша с Ициком придут, обедать будем, – подцепила ухватом чугунок со стола и снова понесла к печи.
– Генька! Что у тебя за язык? Нынче Ханука[5]…
– При чём здесь Ханука, мама? Девочкам сладости дали. Элке ещё и подарок…
– Так у неё в среду день рождения был!
– И шо? Свечи зажигаем. Мужчины придут – за стол сядем. Всё по чину, как положено.
– Так молитву надо…
– Ладно, читайте свою молитву: вас Бог любит, может, и услышит[6]. Только мне не мешайте. – И Гинда стала греметь у печи.
Ханна вздохнула и продолжила молиться одними губами.
Во всё время, пока шёл обыск, Генины дочки лежали за стенкой под цветастым покрывальцем на застеленной кровати, куда их привычно уложила Вера. И хотя в комнате было тепло, Этю потряхивал озноб. Она приложила ухо к дощатой перегородке и ловила каждое слово. Слёзы сами собой текли по щекам девочки: ей было жалко маму и страшно.
– Не плаць, – говорила Элла и вытирала маленькой ладошкой слёзы сестры. Она научилась рано говорить.
– Я не плачу, – улыбалась сквозь слёзы Этя. – Мы, когда вырастем, никогда так не будем жить. Никогда! Мы будем хорошо учиться. Давай пообещаем друг дружке. Хорошо?
– Холосо, – отвечала Элла, не совсем понимая, что говорит сестра, но точно зная: что-то очень-очень важное…
Когда всё стихло, в комнату вошла Этя, оставив уснувшую Эллу у Веры.
Глава 3
Дом на улице Горького, бывшей Пролетарской. Июль 1935 года (таммуз 5695)
1– Мама! Я с папой на бойне был! Кровь пил! Бычью! – Буська с криком влетает в залитую солнечным светом комнату и бухается на диван напротив балконного окна. С его широкого лица на сходит счастливая улыбка.
– Ша! Шлемазл! Дэвика разбудишь, – сценическим шёпотом пресекает громкую радость старшего сына Ривка.
Между тем следом за ребёнком неспешно входит Моисей Гуревич. Необычно сгорбленный и усталый, кряхтя присаживается на край стула, ставит локти на стол и опускает голову в ладони, настолько большие, что они закрывают лоб и всё лицо.
– Мойша, что? – бросается к мужу Ривка.
– Ничего. Устал немножко, – не поднимая головы, отвечает тот.
– Мама! Он сегодня полтуши телячьей на разделочный стол поднял! А потом сделался весь белый и за низ держался. – Буська спрыгнул с дивана и показал матери, за какое место держался отец.
– Миша, ты идиот?! – всплеснула руками Ривка. – Миша, мало тебе ребёнка к вашим мясницким непотребам приучать – кровь пить, так ты ещё и силу показываешь! Миша, сколько тебе лет?
– Она свежая, полезная. Пусть мальчик растёт здоровым, – бубнит в ладони Мойша.
– Мальчик и без этих твоих штук здоровым растёт! А с твоими выходками мальчик имеет все шансы расти здоровым без отца. Впрочем, зачем ему такой отец-идиот?
– Э-э-э, Рива, перестань! – Моисей кряхтя поднимается со стула. – Сейчас полежу немного – отпустит.
– Буська! Марш с дивана, – командует Ривка и тут же, как фокусник, достаёт откуда-то подушку, взбивает и напевным грудным голосом, будто обволакивая лаской, говорит: – Ложись, ложись, Миша!
Буська всегда удивлялся: как это у мамы ладно получается? Вот только что металл в голосе звенел и хотелось в ответ на её слова голову в плечи вжать или сквозь землю провалиться. И вроде не кричит, а всё одно получается так, словно приказывает. Но тут же как скажет что-то ласковое – и слёзы сами на глаза наворачиваются, и ты готов штаны спустить и задницу под самый гадостный укол подставить. Не страшно нисколечко и даже не больно.
Отец, укрытый лёгким лоскутным одеяльцем, начинает дремать и, уже засыпая, просит:
– Рива, ты мне кашу манную свари. – И вот уже с дивана раздаётся его мерное, спокойное дыхание. Дышит отец широко – так, что грудь вздымается, как у богатыря.
– Ну ты посмотри на него! – ворчит про себя Ривка. – Тихий-тихий, а заводится на раз. Он же, Буська, всю жизнь тяжести на спор перетаскивает. Как с тринадцати лет стал в батраках ходить, на мясника работать, так то туши поднимает, то ларьки с газированной водой на спор на спине переносит.
– Да знаю я, мама. Папа у нас сильный.
– Папа у вас глупый, – пресекает сына Ривка. – Силу не демонстрировать, силу беречь надо. Кушать будешь?
Буська кивает кудрявой светлой головой и садится к столу. Через минуту перед ним стоит тарелка, полная свежим дымящимся борщом и добрый шмат арнаутки – горбушки, как он любит.
За перегородкой в спаленке спросонья хныкнул Давидка. Ривка ушла к младшему, бросив Буське:
– Доешь – отнеси посуду на кухню.
Когда она вернулась в большую комнату, ведя за руку кудрявого, досматривающего дневной сон Давидку с полузакрытыми глазами, то, ничуть не удивившись, обнаружила на диване уже двоих спящих: Буська лег валетом, спиной к ногам отца и, подложив ладошки под голову, сладко спал. На столе стояла пустая тарелка.
– Ну что, Дэвик, пойдём на кухню посуду мыть. Не будем мешать нашим мясникам – пускай отдохнут после работы, – сказала Ривка.
2– Бабушка-баба! Мы с Дэвиком прискакали! – влетает Буська с младшим братом на плечах.
Голда Гуревич сидит у большого круглого стола посреди комнаты и, нацепив на нос очки, штопает детские носочки. Едва завидя внуков, она откладывает рукоделие и улыбается. Солнечный луч отражается от белой вставной челюсти: спасибо Мойше, справил матери зубы! В комнате, и без того залитой летним солнцем, становится ещё светлей…
Буська с ходу наклонил голову и, сорвав младшего брата с плеч, перекрутил его в воздухе и поставил на пол. Давидка засмеялся, а Голда, всплеснув руками, укоризненно закачала головой:
– Куда Рива смотрит? Разве можно таким шамашедшим киндэрлах[7] доверять ребёнка? Ой, Буся, будет у тебя ки́лэ[8], как у отца, если до этого Дэвика не убьёшь.
– Бабушка, а что такое килэ?
– Грыжа. Что ещё?
– А почему она у меня должна быть?
– Всё! Гиникшин![9] Что, почему?.. Нипочему. Блинчиков будете?
– Да! – громко выкрикнул маленький Давидка.
– О! Он уже понимает за блинчики, – восхитилась Голда.
– Ничего он не понимает. Так ляпнул, – остудил бабушкину радость Буська.
– Фи! – возмутилась Голда. – Это тебя твои пионэры научили таким словам?
– Каким таким, бабушка? Пионер – всем ребятам пример!
В пионеры Буську из-за плохого поведения приняли в конце учебного года, после всех, но всё-таки приняли, а тут и лето подоспело как-то сразу. Так что Буська не успел «наноситься галстука», как он сам говорил. И теперь по всякому поводу и без повода повязывал алый треугольник на шею.
Как-то он явился в галстуке играть в футбол, Колька обрадовался:
– Давай его сюда! Я его на руку повяжу, чтобы было видно, кто капитан.
– Не дам! – оттолкнул руку друга Буська.
– Жидишь? – тут же завёлся Колька.
– Ща в лоб получишь! – в ответ вскипел Буська.
Подобные ситуации были не редкость между друзьями. Обычно мирился Колька, потому что, несмотря на взрывной характер, справедливо считал себя в их дружбе старшим и более «умудрённым жизнью». Вот и сейчас он примирительно похлопал Буську по плечу:
– Ладно, ладно! Я не это имел в виду. Понимаю, ты ещё не наносился галстука. А я уже два года таскаю, привык. На руку вон у Сашкиной сеструхи платок возьму синий – намотаю. Но ты галстук всё-таки сними: вдруг порвётся. Или за капитана тебя будут принимать. У хлопцев в голове путаница зачнётся.
Буська согласился с рассудительными словами друга, снял пионерский галстук, скреплённый серебристым значком с изображением трёхъязычного костра, аккуратно сложил, засунул в карман вместе с зажимом и спросил:
– Мне куда вставать?
– На защиту, как обычно. Соперники одного твоего вида пугаются, когда ты в игре. Только в штрафной не фоли – руки не распускай и по ногам не бей.
– Будь спокоен, – заверил Буська.
Вот и сейчас Буська прискакал к бабушке в галстуке и, отвечая ей, с любовью разглаживал на груди алые атласные концы, стянутые между собой «серебряным» зажимом.
А потом они сидели за столом, пили чай и ели вкусные, тонкие и о-о-огромные блины с мёдом. Дэвик расположился у бабушки на коленях. Голда отщипывала от блина кусочек, макала в блюдце с мёдом и совала малому в широко открытый рот.
3Голда Гуревич, как и все её дети с их семьями, проживала на улице теперь Горького, бывшей Пролетарской. Только младший Сёма ещё не был женат, но и он поселился отдельно от матери, и тоже на улице Горького. Так сложилось. Наверное, хорошо сложилось.
У Голды с Шимоном родилось двенадцать детей, из которых в живых осталось только шестеро. Старший – Хаим, потом Мойша, Лиза, Таня, Авраам и самый маленький, которого Бог послал им на старости лет: когда Голде уже было прилично за сорок и ни на что такое рассчитывать не стоило, родился-таки Сёма. Болезненным родился, но всё в руках Божьих.
Про Божью волю знают все, но её муж Шимон это знал особенно: он всю жизнь нигде не работал, сидел дома, молился и давал советы. Сначала он давал советы в черте оседлости в Рожеве[10], что под Киевом. Родители Шимона пришли в этот городок в еврейскую земледельческую колонию, как тогда говорили, и родили там её будущего мужа очередным по счёту ребёнком, если не двенадцатым, как потом они Сёму. Такая жизнь – всё в ней повторяется по кругу и всё неслучайно. И всего в этом Рожеве было три десятка идиш-семей – две сотни душ. А потом стало больше шестисот евреев, и все знали и уважали ребе Шимона и ходили к нему за советом. Когда ему было работать? Хотя давать советы – это была ещё какая работа, потому что Шимон Гуревич не просто давал советы, а ещё и немножко «устраивал дела». И они себе жили не богато и не бедно и рожали детей. И жили бы себе так дальше.
Но Шимону засвербило в одном месте, и они разом перебрались в Киев, куда к тому времени уже переехали Хаим и Мойша. «Чтобы быть возле детей и все могли пристроиться. Это лучше, чем Рожев», – в своём доме Шимон советы не давал, а просто сообщал, что надо делать и как жить. Говорил он, как все Гуревичи, мало и редко. Поэтому если уже что-то говорил, то это было решение, а не предложение порассуждать. Своего отца переплюнул только Мойша: этот вообще молчал, что ни спроси – тишина. Так это и правильно: у Мойши за всех говорила Рива и заодно думала, потому что говорить не думая могут только попугаи, а в их семье таких не было. Так что Мойша мог молчать сколько угодно. Главное – молиться на Риву и, конечно, не забывать про Бога. Всё это Мойша делал с успехом и превеликим удовольствием. А ещё, в отличие от своего отца, работал. С молодых ногтей. И был-таки хорошим мастером в своём колбасном деле. И все Голдины дети работали – и мальчики, и девочки. И были хорошими специалистами. А Сёма – так тот даже дослужился до начальника цеха, но это было уже потом, после войны, и Голде не выпадет такого счастья, чтобы увидеть своего младшего большим человеком.
В общем, Шимон нараздавал советы за всех своих детей, так что им пришлось работать. И слава Богу!
Шимон ушёл из жизни в двадцать девятом году – хорошо, тихо ушёл. И Голда осталась за главную в семье. И все внуки при малейшей возможности прибегали в её комнатку на улице Горького, а она не хотела переезжать ни к одному из детей. Почему? Потому что, что бы там ни говорили, больше всего на свете старики любят свой угол. Голда так и говорила: «Это мой угол. Мне тут хорошо. А вы, слава Богу и спасибо Шимону, рядом. Так что приходите в гости почаще». Господь дал ей светлую голову до конца дней, и все внуки называли её не иначе как «бабушка наша золотая»[11].
– Ну что, наелись? – Голда обращалась больше к Бусе, потому что Давидка уже давно отодвинул от себя тарелку с блинами и сидел у неё на коленях, пытаясь оторвать от скатерти бахрому. Голда молча отстраняла его ручки, а он так же молча тянулся к скатерти и хохотал, когда удавалось всё-таки схватиться за «висюльки».
– Ага, – удовлетворённо сказал Буся и демонстративно откинулся на спинку стула.
– И что теперь?
– Можно, я сбегаю погуляю на часик, а ты пока с Дэвкой поиграешь?
– Так уж и поиграю? – усмехнулась Голда. – Можно, можно. Беги гуляй. Смотри только не дотемна.
– Спасибо, бабуля! – Буська подскочил к Голде, чмокнул её в щеку и – только его и видели!
– Дети… – удовлетворённо сказала Голда вслед внуку и понесла начавшего дремать Давидку на маленькую кушетку у входа в комнату – в самый раз. Уложила, прикрыла тёплым платком, под голову подсунула подушку-думку, убрала со стола и опять села штопать носки внукам. Невестки и сами могли, конечно. Но по её просьбе подкидывали работу-заботу, чтобы не скучала, чтобы чувствовала себя полезной.
– Дети… – с улыбкой повторила Голда, надела на нос очки и стала втыкать нитку в узкую щель цыганской иглы.
4– Мама, добрый вечер. Где дети?
Голде всегда нравилось, когда к ней приходил Мойша. И не только потому, что всякий раз он приносил какой-нибудь гостинец старухе. Она так и говорила: «Порадовал старуху». Другие бы её дети, особенно Таня, запротестовали: «Мама, ну какая ты старуха?!» А Мойша – ничего не скажет, промолчит, кивнёт головой и станет доставать-разворачивать свой гостинец. Великий молчун, даже больше, чем его отец. Вот только умных советов не даёт – слава Богу! Правда, Рива нет-нет да пожалуется: «Что ни попросят – всё сделает. Недавно одного с работы на другую квартиру перевозил. Тому на грузчиков было денег жалко. Так Мойша в одиночку с одного третьего этажа на другой третий весь скарб перетаскал. Даже диван умудрился на спине поднять. А тот мало не заплатил, так даже обедом не накормил: “Спасибо, Миша, сочтёмся как-нибудь”. И всё. Миша домой пришёл чуть не за полночь, усталый. Клещами слова вытаскивала. А потом только сказал: “Надо было помочь”. Ну что ты будешь с ним делать?!»
Голда выслушает Ривкины сетования и тоже ничего не скажет: слышит, что говорит невестка, но видит, как она радуется на своего Мишу, что он такой добрый, чистосердечный. Ничего! Миша в хороших руках: Ривка, если что не так, подскажет, сама переделает, а то и прикрикнет – не на Мойшу, на любого, кто не с добром к нему пристанет. Так что у этих всё под защитой: лишенцы да злыдни всякие со стороны и не сунутся, остерегутся, потому как про Ривку если не знают, то им расскажут. Она ведь сама хоть добрая, но ремешком по случаю отходить может. Вон Буська какой битюг растёт. Силой в отца пошёл, а вот живостью явно в мать: пока растёт, на всякие там шалости бо-о-ольшой мастак! Ривку хоть раз в неделю, а в школу вызывают. Да она и сама, не дожидаясь прихода учительницы, туда бегает. Буська ж – ведь он не только добрый, он ещё и честный: домой придёт – с порога всё матери рассказывает. Опять весь в отца.
Мойша тот хоть и говорит всего ничего, но, если что спросят – соврать не может. Так что Ривка, когда неловкий вопрос где на людях прозвучит, всякий раз ему в ухо шепнёт, чтобы никто не слышал: «Лучше молчи». А Мойша, когда как раз надо молчать, этого делать и не умеет. Так что Ривка незаметно толкнёт мужа в бок и сама за него ответит. Голда не раз тому свидетелем была. К слову, на этот Первомай… Голда не слишком разбирается, что за праздник такой, но в гости в этот день ходить любит, чаще к Мише с Ривой. Вот и на этот раз накрыли стол, соседей позвали, младшенький Сёма с фотоаппаратом пришел. Кто-то из соседей вдруг и спросил некстати: «Миша, у вас там на работе, говорят, кого-то арестовали?» Мойша и рта не успел открыть, а Ривка уже ответила: «Мы того не знаем, – и тут же разговор перевела: – Наполняйте рюмочки. Будем тост говорить за рабочих людей: праздник труда сегодня». Так никто и не понял: то ли тех, кого арестовали, Миша с Ривкой не знают, то ли вообще не знают, что кого-то забрали. И совсем непонятно, кто эти «мы»: то ли Миша с Ривкой, то ли ещё и гости. Ривка в таких случаях всегда говорила «мы», так что желания повторять вопрос не возникало.
Глядя на Мишу, Голда отдалась хорошим мыслям, расслабилась, взгляд потеплел, а губы непроизвольно расплылись в улыбке.
Между тем сын развернул свёрток из толстой светло-коричневой обёрточной бумаги и положил на середину стола:
– Вот!
На бумаге красовался приличный кусок, граммов на двести, варёной колбасы. Кусок был свежайшим, выглядел аппетитно и несколько необычно: в бледно-розовом круге не было ни жиринки. Чистое мясо! Голда подошла, понюхала: запах был обворожительный. Это красивое слово она слышала от Ривки. Слово ей понравилось, и Голда запомнила, чтобы вставлять при случае. Сейчас как раз был такой случай:
– Такое богатство! Что это, Миша?
Мойша удивился материному вопросу по поводу очевидного, но ответил как положено:
– Колбаса.
– Я сама вижу, что колбаса. Я спрашиваю: какая колбаса? Я такой раньше не видала.
– Докторская, – последовал такой же односложный ответ.
– Миша! – не выдержав, Голда прикрикнула на сына. – Ты издеваешься? Можешь толком объяснить?
– Это новый сорт колбасы, мама. По моему рецепту. Будешь пробовать?
– А ты для чего тогда её принес, чтобы я посмотрела?
Мойша выдвинул из-под крышки круглого стола встроенный ящичек, достал острый нож – он регулярно приходил к матери и сам точил для неё ножи – и отрезал тонкий кусочек на пробу. Голда сняла с ножа двумя высохшими от времени и трудов пальцами, положила на язык, прикрыла глаза и стала не спеша смаковать, по чуть-чуть пропуская в себя волшебный вкус. Мойша терпеливо ждал.
Голда открыла глаза и сказала:
– О! Миша, в Рожеве ты был бы единственным. – Из уст Голды это было высшей похвалой. – Отрежь-ка ещё кусочек, по-настоящему.
Мойша был счастлив: маме понравилось. Он отрезал по кругу уже полноценный кусок и подал матери.
– А почему, скажи, докторская?[12] – с наслаждением вкушая колбасу, спросила Голда.
– Потому что для здоровья.
– Миша, для какого здоровья? Это же колбаса! Вы там все ненормальные? Или, может, она из морковки?
– Мама! Так решили.
– Кто? Мойшэ! Ты из меня жилы на новую колбасу хочешь вытянуть? Расскажи всё до конца, не останавливаясь.
– Ну, это специальный рецепт. Мяспром заказал. Для тех, кто участвовал в Гражданской войне и испортил там здоровье или пострадал от царя. Будут выдавать по рецептам.
– По рецептам? Миша, я не герой Гражданской войны, жена твоя не герой. Дети твои, Миша, тем более не герои. Мы все, Миша, не герои. Ты хочешь сказать, что нам эта колбаса не положена?
– Мама, что ты от меня хочешь?
– Ничего не хочу, Миша. Ты уже сделал своё дело: изобрёл колбасу, которая не положена твоей семье. Ты хоть скажи, там свинина есть? Я и сама слышу: есть. – И Голда поцокала языком, счищая с нёба остатки колбасного вкуса. – Дюже кошерный продукт! Ладно, пусть её герои Гражданской войны кушают.
– Мама, там тоже евреи есть.
– Значит, это неправильные евреи, если едят твою докторскую колбасу. Иди-ка позови детей с улицы, пусть поедят, а то больше не придётся.
– Мама, а как же кашрут?
– Мойша! Хватит тут шутить. То слова не вытянешь, то разговорился. Зови детей, я пойду чайник ставить.
Часть 2
Отцы
Киев, 1936 г. (5696 г.)
Глава 4
Моисей Черняховский. Первомай, 1936 год (9 ияра 5696)
1Изнурительные сны не оставляли Моисея Черняховского с того дня, как родилась младшая дочь. Он уже и не предполагал, что ещё может делать детей. Здоровье непоправимо уходило. Грудь разрывалась от бесконечного кашля. Чахотка, заработанная в окопах Первой мировой, а потом притихшая было на два года германского плена, стала напоминать о себе, едва он вернулся в разграбленное Гражданской войной родное местечко.
За шесть лет, пока он служил и воевал за царя, отрабатывая пресловутый четырёхпроцентный «жидовский призыв», пока отдыхал в плену, батрача на прусского юнкера, ковыряясь в свином навозе, отпиваясь коровьим молоком из щедрых пухлых ручек юнкерши по имени Эльза и отсыпаясь с ней в душистом сене высокой риги после «весёлых дел», пока полгода добирался домой после того, как мировую войну закончили, пока проживал он вот так треть своей недолгой жизни, в России, а значит и в Малороссии, произошли одна за другой «не пойми зачем» две революции, и по просторам страны гуляла уже своя, доморощенная братоубийственная бело-красная война, а по еврейским местечкам ещё и погромы со всех сторон и от всех разноцветных шаровар, фуражек и папах. Родители не выдержали лихолетья и один за другим умерли. Похоронил их младший брат Ицик, один в опустевшем домишке оберегавший родные могилы.
Всего у отца с матерью выживших детей было четверо – три брата и сестра Татьяна. Остальные – то ли пятеро, то ли шестеро детей – умерли ещё в младенчестве. На кладбище все рано ушедшие дети Черняховских покоились под одним надгробием, на котором были высечены имена. У четверых год рождения совпадал с годом смерти. Дети умирали, но Тиква[13] Черняховская не теряла надежду, а муж её Наум молился. И Господь вознаградил их за веру и усердие: через восемь лет от начала их совместного пути родился сын Яков, крепкий и здоровый. На ту пору Тикве исполнилось двадцать два, а Науму целых двадцать четыре года. И это считалось много.
Жили небогато, но и не так чтобы бедствовали. Отец занимался кузнечным ремеслом, мать, как положено, вела хозяйство. Родители мечтали дать детям образование и всеми правдами-неправдами старались вытолкнуть их в ближайший город – всем городам город – Киев. Но если старшему Якову учёба давалась и (как уж отец исхитрился?) паспортная книжка с видом на жительство в Киеве пошла ему впрок – Яков определился в вольнослушатели Киевского политехнического института на химический факультет, то что касается второго выжившего сына, Моисея, учёба для него была как не в коня корм. Монька, так привыкли уличные друзья и родня величать-дразнить его за непоседливость и задиристый характер, рос весёлым и крепким и предпочитал больше работать руками, чем головой, оттого с малолетства и приспособился к отцову ремеслу. Сначала помогал в кузне: то меха раздует, то заготовку клещами прихватит да в жбан с водой охолонуться опустит. А после и сам встал к наковальне. Первую свою кобылу сам подковал уже лет в четырнадцать.
– Мне для работы четырёх классов хедера[14] – за глаза, – отвечал со смехом на приставания Якова, навещавшего родных раз в месяц. – У нас имеется в семье один химик-Менделеев, надо и Вакула чтобы был.
– Ты про Вакулу откуда знаешь? – удивился старший брат.
– Тю! Шо ж, в нашей семье ты только один грамотный? Я Гоголя дюже люблю, а «Вечера…» так и вовсе за лучшую книгу считаю.
– Ну-ну… – ухмыльнулся Яков. – Так уже и черевички есть кому дарить?
– А ну цыть! – вмешался в разговор сыновей отец. – Пусть сперва на эти черевички заработает – люфтменш![15]
– С чего это я люфтменш? – возмутился Монька.
– А кто ты ещё? – отец изобразил удивление и тут же пояснил специально для старшего сына: – У нас тут в соседнем украинском селе молоденькая учительница объявилась. По всему видать, городская, интеллигентная вся из себя – звать-величать Анна Сергеевна. Так наш бубалэ[16] повадился чуть ли не день через день бегать к ней – вроде того она книжки ему даёт почитать.





