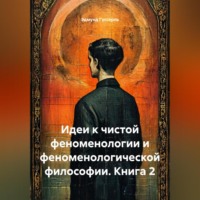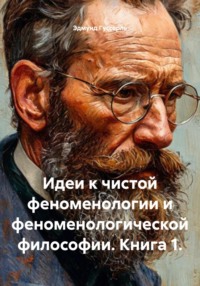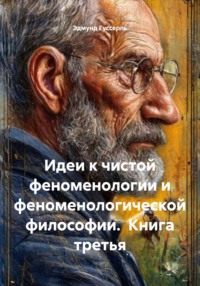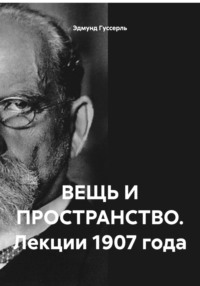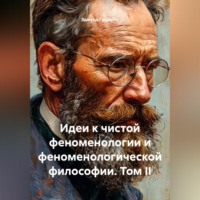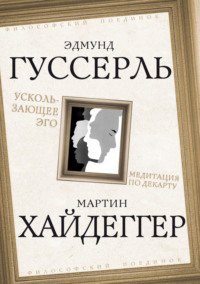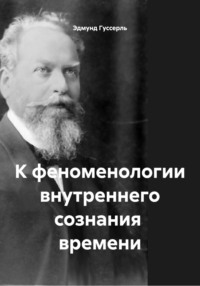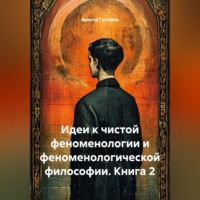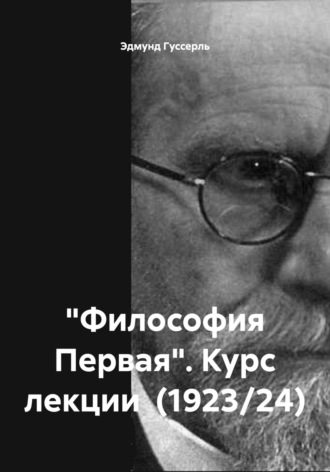
Полная версия
«Философия Первая». Курс лекции (1923/24)
Общая методология познания начинается, таким образом, как предварительное исследование, которое в общих размышлениях тщательно исследует оспариваемую возможность подлинного познания, достигая тем самым первого идеала рациональности. Затем, реализуя этот идеал в рамках своей собственной методологической области в определенном направлении, она начинает самоформироваться в этом направлении – то есть в измерении, очерченном идеями суждения, судимого предмета, истины, истинного бытия – как рациональная методология. Таким образом, из имманентной мотивации, произведенной ею самой, начинается развитие, в котором она начинает самоформироваться как чисто рациональная научная дисциплина, чисто рациональная согласно идее, намеченной ею же ранее. То же самое происходит с арифметикой и геометрией, которые, в соответствии с той же идеей, проектируются "вне" методологии как рациональные и подлинные науки, а затем и с другими науками. Здесь следует упомянуть рационально объясняющее естествознание, которое уже в Античности, с самых первых и наиболее примитивных своих начал – начал физики и астрономии – стремилось к оформлению. Конечно, это естествознание само не могло превратиться в чисто рациональную науку, но тем не менее оно уже имело (долгое время непризнанную) новую форму рационального объяснения фактов, поскольку, используя чистую математику как методический инструмент, оно предоставило эмпирическому познанию участие в сущностной необходимости (prinzipiell).
Рациональные науки, основанные таким образом как "внутри", так и "вне" рамок методологии, были науками совершенно нового исторического типа. Они воплощают предварительно сформированный методологический идеал (конечно же, полностью определяющий только в своей реализации), который конституирует для всего будущего, вплоть до сегодняшнего дня, понятие подлинной науки. Но какими бы великими ни были их достижения, и сколь бы ни было так, что прежде всего чистая математика представляла изначально, так сказать, идею подлинной науки для всеобщего сознания и на протяжении тысячелетий была высоко ценимым образцом для новых основывающихся наук, они и все последующие науки были лишь "частными науками" или, вернее, были лишь "догматическими науками", которые мы с полным основанием должны противопоставить наукам "философским". Что означает это противопоставление догматических и философских наук?
Предшествующий анализ дает нам путеводную нить, чтобы уловить по крайней мере во всякой догматической рациональности необходимый, но еще не удовлетворенный дезидерат. Пока мы придерживаемся платоновской идеи философии как идеи, конституирующей цель познания, философскими науками для нас могут быть лишь науки, основанные на "абсолютном обосновании", то есть науки, способные защитить свое познание со "всех" точек зрения. Другими словами, это могут быть лишь науки, в которых ученый может полностью обосновать всякое познавательное построение в любом отношении, так что ни один вопрос, касающийся его легитимности, не остается без ответа, ни одна особенность познания, релевантная для такого вопроса, не остается без учета, будь то относящаяся к аналитическому смыслу высказываний, к соответствующим интуитивным содержаниям или к различным субъективным модусам, в которых познание осуществляется и в которых только и может являться высказанное и познанное. Что же сталось в новых возникающих науках с этой рациональностью, обеспечивающей обоснование со всех точек зрения, – это вопрос, к которому мы теперь и обратимся.
Лекция 6а. Требование теории познания, подразумеваемое платоновской идеей диалектики.Мы закончили прошлый урок вопросом о том, что происходит с рациональностью наук нового типа, тех наук, что пожелали именовать себя "рациональными". Соответствовала ли "сама" евклидова геометрия, это подлинное чудо рациональности, платоновской идее философской дисциплины, производящей истинное и подлинное знание и таким образом говорящей нам в каждом истинном положении о том, что же в конечном счете поистине есть сущее? В конечном счете, то есть так, что исчерпывается всякое рациональное вопрошание. Посмотрим.
В первоначальном основании научных теорий, в их последующем развитии, когда они были приняты, и в их развертывании под именами формальной или чистой логики, чистой арифметики, геометрии и объяснительного естествознания, положения устанавливались не как попало и не принимались слепо. Формировались не просто суждения, а "усматривающие" (einsichtig) суждения, будь то непосредственной очевидности или очевидные через опосредованное следствие, то есть через убежденность в необходимости следствия. Имело место "усмотрение" (Einsicht) в релевантных суждающих понятиях, и смысловое содержание каждого высказывания сообразовывалось с самой объективностью, с самим положением дел соответствующей области, на которую были направлены научные усилия в данном случае, с совершенной и явной адекватностью. То, что достигалось, достигалось с сознанием достижения результата, и сам исследователь – одновременно обосновывающий субъект – приобретал в сопутствующем рефлексивном рассмотрении убежденность в его достижении. Что еще можно было требовать?
И все же, не должно ли быть возможно, в самом деле, нечто большее, лучший результат в отношении тех проверочных рефлексий, которые ученый постоянно осуществляет в ходе своей работы? Такие рефлексии состоят в чистом направлении взгляда на процесс и результат умственной операции, на продуцируемые смысловые содержания, на мотивированные переживания и на те, что имели место спонтанно, или на любую другую проясняющую или проверяющую интуицию. Особенно смотрят, удовлетворяют ли смысловые содержания определенным образом соответствующим интуитивным содержаниям и, таким образом, чисто мыслимое как таковое (то, что мы называем чистым аналитическим смыслом) точно ли в полном смысле сообразуется с интуитивно данным, или же, в конце концов, тут или там не сообразуется, и нужно изменить или отбросить предположенное. Осуществляя эти рефлексии, "ученый" всегда направлен на объект, теоретическое определение которого он поставил себе целью. Но в ходе процесса он может спросить себя, видел ли он, например, этот объект достаточно близко, не должен ли он посмотреть на него с другой стороны и т.д. И если в результате этих новых соображений обнаруживается необходимость внести изменения в определение объекта, он оправдывает их перед собой, говоря, например: "Объект на самом деле не таков, как я думал, и это показал мне новый аспект, под которым я его рассмотрел" и т.д.
Этот вид рефлексий ясно показывает, что в случайных изменениях перспективы, осуществляемых для обоснования своей деятельности, ученому становится явным, что в определении объекта, который он всегда имеет в виду как один и тот же, решающими для него являются, тем не менее, различные модусы субъективной явленности, в которых этот объект ему предстает. Он может делать это более или менее тщательно и глубоко, в зависимости от потребностей момента. Во всяком случае, это простое смотрение, и в рамках этого субъективного исследования это практическая деятельность, в которой он признает и удерживает, запечатлевая в памяти, или отвергает и размышляет. Но это исследование и эта деятельность всегда остаются привязанными к единичному случаю как конститутивным элементам единичной научной деятельности.
Однако, не следует ли здесь требовать большего? Не могли бы здесь – или, вернее, не "должны" ли были бы – ставиться общие вопросы? Разве здесь не идет речь о событиях познавательной жизни возможных познающих субъектов, которые следовало бы описывать общим образом, о событиях, в высшей степени достойных особого теоретического интереса? И все же, в случайных обосновывающих рефлексиях ученого на события познающей субъективности проливаются лишь спорадические проблески света. Аспекты объекта, которые в зависимости от обстоятельств попадают под его взгляд, суть лишь немногие из бесчисленных модусов, в которых объект ему дан, в то время как он имеет его перед глазами как один и тот же; как один и тот же, который он видит то спереди, то сзади; который один раз имеет перед собой в восприятии, а другой раз – в памяти; на который, сосредоточенный на своем исследовании, он направляет исключительно свой взгляд; который затем, когда он отвлекается, уходит на задний план сознания; который иногда находится впереди ясно и отчетливо, а иногда смутно. Не следовало ли бы здесь предпринять теоретическое исследование всего этого, исследование, которое взяло бы в качестве теоретической темы познавательную деятельность вообще во всех ее модусах, а затем, далее, познавательную деятельность общего типа, называемую научной? Не должно ли такое исследование дать общие усмотрения, которые были бы весьма полезны для ученого, работающего в различных науках, которые позволили бы ему, возможно, придать своей единичной деятельности обоснование высшего стиля, наложить на нее существенные (принципиальные) нормы?
Тогда для него самого, для ученого любой науки, это представляет большой интерес. Ведь речь идет о теоретическом исследовании многообразной живой жизни, которую проживает познающий ученый во время своей мыслительной деятельности, жизни, в которой состоит сама его познавательная деятельность, хотя для него она остается скрытой, или в которой состоит внутреннее существо конфигурации того, что он постоянно имеет в виду как продукт познания, как цель и путь познания. Мысля теоретически и получая теоретические результаты, он живет в этих процессах, сам их не видя. То, что он имеет в виду, – это результаты, которые конституируются в этих процессах, и пути к ним: то, что дано ему как испытанное в различных опытах, в различных перспективах и субъективных аспектах как одна и та же испытанная вещь; или то, что дано ему как тождественное суждение в разнообразной судящей и высказывающей деятельности, как одно и то же положение – например, "2 x 2 = 4" – к которому всегда можно вернуться; далее, в доказывающем познании, положения в их соответствии с объективно усмотренным и характер правильности, который в каждом доказательстве проявляется как тождественный, и т.д.
Только когда ученый переходит от этого наивного мышления к новой рефлексивной установке, которая ему также нужна для субъективного обоснования своей деятельности, становится видимым нечто из прежде скрытой субъективной жизни, проявляются те или иные моменты, интересующие его в субъективном модусе данности объектов его опыта, суждений или правильности этих суждений. Но, как мы уже сказали, они становятся видимы лишь как конкретные единичные случаи и никоим образом не как теоретическая тема.
Итак, нам ясно, и по мере того, как мы точнее представляем себе научное осуществление, имеющее место в познании, нам стало ощутимым как великий дезидерат, неотвратимая необходимость теоретического исследования и со всех сторон этой познавательной жизни, многообразных познавательных деятельностей представляния, суждения, обоснования, исследования и обоснования или как бы их ни называли теми смутными и общими именами, которые дает им язык. Это, несомненно, жизненные деятельности, в которых в сознании всякого познающего субъекта, в различных актах, которые необходимо постоянно приводить в действие, конституируются субъективно тождественные познавательные единства, тождественные объекты опыта и мышления, тождественные высказывания и, наконец, также тождественные истины и ложности. То, что он имеет, он имеет лишь как имеемое в его имении, как испытанное в его испытывании, как сконструированное его мышлением, как нечто, что определенным образом "делается" в его субъективной жизни. И называется "одним" и "тем же" этот один и тот же объект восприятия, к которому могут обращаться новые восприятия и воспоминания, это одно и то же суждение, эта самая истина, полученная с повторной очевидностью, и называется "тем же самым" благодаря субъективному отождествлению, в котором различные акты и субъективные жизненные моменты приходят к синтезу, то есть благодаря единому сознанию, в котором это "тождественное" субъективным образом конституируется. Для познающего субъекта нечто может быть чем-то, может называться "одним" и "тождественным" лишь потому, что оно возникает именно из того субъективного переживающего акта, который называется отождествлением.
Самые познавательные единства, а затем также те же роды и виды познавательных единств (вещи вообще, объекты вообще или эмпирические положения вообще или, еще более обще, положения вообще), отсылают нас заранее к тому факту, что множественные субъективные модусы, в которых они могут осознанно конституироваться в познавательной жизни, протекают фиксированным и сообразным себе образом и в родовой стандартизации. Заранее можно ожидать, что общности познавательных единств соответствует общность регулируемой стандартизации субъективных модусов познания как единственных модусов, в которых такие единства могут субъективно даваться. Нам кажется естественным, что всякий объект, который мы представляем, о котором мыслим, представим и мыслим для всякого человеческого существа, то же самое, что всякое судящее мышление и любая высказывательная значимость понятны впоследствии для всякого человеческого существа и всегда. И это потому, что во всяком человеческом существе возможны эквивалентные субъективные переживания сознания, которое представляет, понимает и конституирует смысл, в котором может формироваться тот же смысл. Нам кажется естественным, что истина, которую мы понимаем с очевидностью, может быть понята с той же очевидностью всеми другими человеческими существами. Всеобщая значимость истины есть всеобщая и постоянная воспроизводимость соответствующих субъективных переживаний очевидности. То же самое верно для всего объективного и логического.
И здесь уже заранее есть отсылка к тому факту, что игра субъективной жизни – по большей части скрытая – в которой осознаются мыслимые объекты, мыслимые содержания суждений, познанные истины, выведенные следствия и т.д., протекает согласно определенным типическим фигурам и, протекая так, всегда осуществляет одну и ту же операцию, и что, таким образом, действительно существует регулируемая корреляция между стандартизацией познания и единой формой познанного. Особенные характеристики того, что "есть на самом деле", "истинного", проявляются в идеальных смысловых единствах, конституированных в сознании, в тождественном мыслимом, в так называемой очевидности. Здесь познавательная жизнь должна принимать под именем "понимания", "очевидности" особую конфигурацию, конфигурацию рациональности, модус жизни, созидающий закономерность, познающий в точном смысле слова. Каковы ее существенные конфигурации и как они должны быть теоретически осмыслены, станут особенно важными вопросами.
Где же тогда находится, какова же тогда наука, чья тематическая "область" располагается в этом направлении? Это, естественно, логика, скажет тот, кто привык мыслить логику как универсальную методологию познания, то есть тот, кто хочет понимать как таковую науку, основанную на платоновской диалектике. Во всяком случае, формальная логика, происходящая из аристотелевской аналитики, никоим образом не является этой наукой; по крайней мере, не является, если мы дадим ей то строго необходимое абсолютное определение, о котором мы говорили ранее. Это, скорее, герметически замкнутая рациональная наука, которая имеет в качестве поля, в качестве тематической сферы, корреляцию между объектом вообще и суждением вообще, возможно, между существующим объектом вообще и истинным суждением вообще, со всеми соответствующими формальными вариантами.
Однако устанавливать априорные законы для объектов мышления и возможных объектов вообще не означает устанавливать законы для субъективных модусов, в которых объекты осознаются, в которых они даются в субъективном познании. И равным образом, устанавливать априорные законы для суждений вообще, судящих отношений следствия вообще, для истинности суждений вообще не означает иметь в качестве темы субъективные модусы, в которых суждения предстают при исполнении судящих деятельностей, или модусы очевидности, в которых они субъективно характеризуются как истины или вероятности, и устанавливать относительно этого априорные законы. Ибо "суждение" в формальной логике обозначает высказывание, узнаваемое во всякий момент как тождественное, являющееся результатом множественных субъективных актов высказывания; тождественное положение, например, "2 х 2 = 4". Вообще, положения априорной всеобщности, как те, что являются темой формальной логики, конституируют особую сферу идеальных объективностей, подобно тому как числа – в арифметике. Подобно положению, число есть нечто идеальное, тождественное, в данном случае, нечто тождественное в самых различных субъективных модусах счета и арифметического мышления. Поэтому, подобно тому как в арифметике только числа составляют тематическую сферу, а не субъективная деятельность счета или какое-либо иное арифметическое сознание, так же и в формальной апофантике ее составляют положения.
Мы видим, в итоге, что чисто формальная логика как рациональная дисциплина находится в этом отношении на том же уровне, что и все прочие науки нового, рационального смысла. Как и все они, она "онтична", а не "эпистемологична"; она не направлена на познающую субъективность или субъективные модусы. Это верно не только для тех рациональных дисциплин, которые, как мы указали, априорны и, при ближайшем рассмотрении, тематически принадлежат к тому же роду, что и силлогистика – развившаяся первой – или, вернее, апофантическая логика, то есть не только для арифметики и всех прочих дисциплин формальной аналитической математики. Если формальная логика, понимаемая более узко или более широко, занимает выдающееся положение по отношению ко всем прочим наукам, если она входит в рамки универсальной методологии для всех наук вообще, если она формулирует идеальные законы, которыми все прочие науки могут в конечном счете пользоваться и которым они знают себя подчиненными, то это потому, что логика и подразумеваемая ею mathesis universalis имеют дело с объектами вообще и суждениями или истинами вообще, и со всеми способами, какими объекты мыслимы, и со всеми формами возможных суждений относительно любого объекта. Естественно, во всех науках строятся теории, то есть конфигурации суждений; во всех них формируются суждения об объектах. Так что формальная логика и все логико-математические дисциплины должны быть значимы для всех наук, для всех мыслимых научных областей и для всех мыслимых научных положений и теорий; или, как мы можем также сказать, формально-логические законы, будучи открытыми, должны иметь назначение давать нормы всем наукам относительно их теоретических содержаний и, таким образом, служить принципами обоснования.
Но, с другой стороны, формальная логика – включая математический анализ – находится, как мы сказали, наравне со всеми прочими науками в том, что ее поле исследования – как и для них – не есть познающая субъективность. И именно это соображение заставило нас почувствовать потребность в науке, относящейся к субъективному в познании, в науке, которая систематически исследовала бы субъективное в познании вообще и в познании всех объективных и научных областей. Она будет отличаться от всех прочих наук специфической особенностью быть отнесенной абсолютно одинаковым образом ко всем мыслимым наукам и иметь по отношению ко всем ним ту же самую задачу: исследовать субъективную сторону их познаний.
Лекция 7а: Систематический проект полной идеи логики – логики истины – как науки о познающей и действующей субъективности вообще.Постулируемая нами наука о субъективном в познании в некотором роде параллельна формальной логике. Но способ, каким она относится ко всем наукам и охватывает их, совершенно иной. Все науки, согласно своему смыслу, относятся к объектам – познавая их через содержание своих теорий. Во всех них объекты суть объекты действительных и возможных суждений и субстраты действительных и возможных истин. Но все эти теоретические содержания, как единства познания, имеют изначальное и постоянное отношение к действительным и возможным познающим субъектам, которые конституируют и всегда могут конституировать в себе тождественные объекты, те же суждения и те же истины в многообразных субъективных модусах познания. Универсальная наука об этих модусах сознания и о субъективности вообще, которая конституирует и постольку, поскольку конституирует в своей познающей жизни всевозможные "объективности", объективный смысл и объективную истину всякого рода, – тематически охватывает, таким образом, всякий возможный субъективный элемент познания всех наук, подобно тому как логика тематически охватывает в своих понятиях и законах всякий возможный объективный элемент всех наук.
Иначе говоря, логика как рациональная наука об объективности вообще – во всей широте, которую можно было бы придать ее идее (и, возможно, превосходящей идею "mathesis universalis") – имела бы своей необходимой контрапарой "логику познания", науку и, возможно, также рациональную науку о познающей субъективности вообще. Эти две науки и, возможно, обе структурированные в соответствующие группы отдельных дисциплин, находились бы в отношении необходимой корреляции. Слово "логика" было бы уместно применено к последней, поскольку "logos" обозначает не только объективно познанное, значение высказывания, истинное понятие и т.д., но также и разум ("ratio"), а значит, и субъективную, познающую сторону.
В связи с этим необходимо учесть еще следующее. Если в этой логике познания тематизируется именно субъективное в познании, то оно, естественно, само, в свою очередь, тематизируется в "акте познания". Этот акт затем становится объектом новых высказываний и истин, которые, в свою очередь, конституируются в познании ученого в различных субъективных модусах. Поэтому ясно, что постулируемая нами универсальная наука о субъективном в познании обладает также той примечательной особенностью, что относится к самой себе, т.е. к субъективному в ее "собственном" познании. И в этом она снова параллельна объективной логике, которая относится к самой себе как к универсальной объективной науке, но лишь постольку, поскольку она сама в своих понятиях и положениях выявляет объективности. Всякий закон, и всякий логический закон тоже, есть положение. Если это логический закон – как принцип непротиворечия – который высказывает истину для всякого положения вообще, то он относится и к самому себе, поскольку сам является положением. Закон непротиворечия гласит, что если положение истинно, то противоположное ему ложно – и это значимо для всякого мыслимого положения. Но сам этот закон есть также положение и потому подпадает под общезначимую истину, которую он сам высказывает. Таким образом, объективная логика как целое тематически относится к самой себе. Аналогичное, но коррелятивное отношение самоотнесенности должно, очевидно, иметь силу и для логики познающей субъективности. Под общую закономерность субъективных познавательных актов, которую она устанавливает, должны подпадать также и все те познавательные акты, посредством которых эти законы становятся познаваемыми.
Необходимо еще одно соображение относительно постулируемой науки о познании. Если мы понимаем ее как логику, направленную на субъективную познающую жизнь, то мы заранее мыслим об общезначимых очевидностях, которые могут служить принципами обоснования, и именно в этом случае – с субъективной точки зрения. И мы также мыслим с самого начала о научном исследовании и мышлении, целью которого является истинная теория некоторой области объектов, подлежащих определению в их истинном бытии и способе бытия. Однако, не только невозможно ни стандартизировать, ни исследовать под нормативным углом зрения подлинное познание без глубокого изучения неподлинного познания, которое, согласно самым общим специфическим характеристикам, все еще можно назвать "познанием", но также следует учитывать, что то, что мы называем теоретическим или научным познанием, есть не что иное, как высшая, эминентная конфигурация, относящаяся к низшим уровням познания: к чувственному созерцанию и воображению в их различных конфигурациях и с соответствующими им модусами чувственных интуитивных суждений, которые не только исторически предшествуют научным как типичные формы познающей жизни донаучного человечества и встречаются уже даже у животных, но и играют свою роль в самом научном мышлении, функционируя как его постоянные и необходимые субстраты и оболочки.
Естественно, полная конфигурация науки о познающей субъективности должна была бы простираться так далеко, как только можно проследить фактические взаимосвязи ее поля вообще, и само это поле уже должно было бы мыслиться в такой широте, которая достигает того объема, какой может достигать фактически родовое общее. В самом деле, никто не захочет, например, установить науку о треугольниках и рядом с ней особую науку о кругах. Точно так же и здесь не захотят постулировать просто науку о познающем научном разуме вместо всеобъемлющей науки о познании вообще в самом широком смысле, в которой теоретически ставится под вопрос тотальность конфигураций восприятия, памяти и игрового воображения – сколь бы примитивны они ни были – равно как и всякая конфигурация априорного и эмпирического научного теоретизирования.