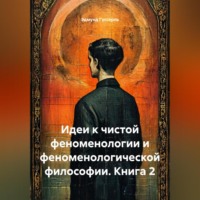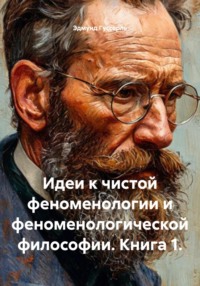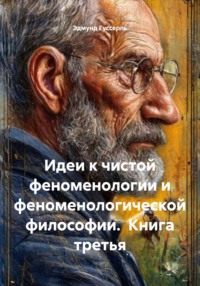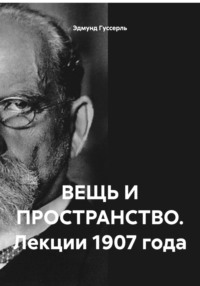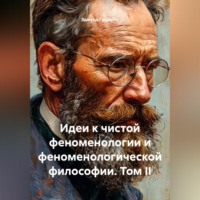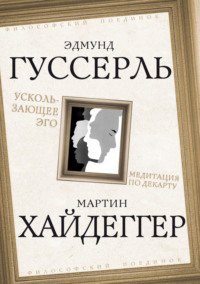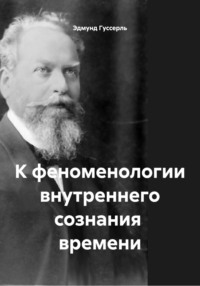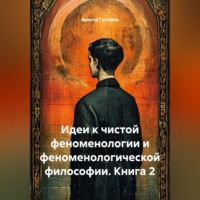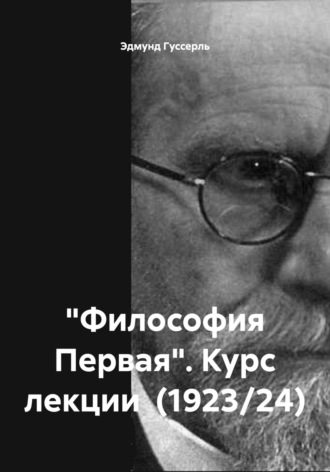
Полная версия
«Философия Первая». Курс лекции (1923/24)
У Сократа, учитывая его известное отсутствие теоретико-научных устремлений, это могло не иметь собственно научной формы и не доходить до систематического осуществления в качестве научной теории метода подлинной жизненной практики. Но во всяком случае несомненно то, что у Сократа уже действительно содержится зародыш фундаментальной концепции рациональной критики, теоретическая и методологическая форма которой и ее плодотворное развитие составляют бессмертную славу Платона.
К последнему мы теперь обращаемся. Он перенес сократовский принцип радикального самоисследования в науку. Пока что теоретическое познание, исследование и обоснование – лишь особый образ деятельной жизни, стремящейся к достижению целей. Следовательно, и здесь требуется радикальное размышление о принципах ее подлинности.
Если сократовская реформа жизни была направлена против софистов, которые своим субъективизмом внесли смятение и упадок в общие этические убеждения, то Платон обращается против них как разрушителей науки ("философии"). В обоих смыслах софисты встретили так мало сопротивления и произвели столь пагубные действия потому, что подобно тому, как еще не было подлинной разумной жизни, не существовало и подлинной научной интеллектуальной жизни. Более того, разумность была чисто наивной претензией, без ясности в себе относительно конечной возможности и правомерности своих целей и средств.
Подлинная разумная жизнь и, в особенности, подлинное, дающее результаты исследование, должны полностью преодолеть уровень наивности посредством радикальной проясняющей рефлексии; в идеальном случае они должны быть способны совершенно обосновать каждый шаг; но прежде всего, обоснование должно проистекать из рациональных принципов.
Платон становится отцом всей подлинной науки благодаря той глубокой серьезности, с которой он пытается преодолеть в этом сократовском духе враждебный науке скептицизм. И делает он это, подвергая софистическую аргументацию против возможности значимого самого по себе познания и строго рациональной науки глубокой фундаментальной критике, вместо того чтобы воспринимать ее легкомысленно. Одновременно он вступает на позитивный путь основательного исследования возможности такого познания и такой науки и, ведомый глубоким пониманием сократовской майевтики, делает это как интуитивное эйдетическое прояснение и очевидное доказательство ее всеобщих эйдетических норм. Наконец, на основе этого эйдетического понимания, он посвящает все свои силы тому, чтобы проложить путь подлинной науке.
Можно сказать, что только с Платоном в сознание человечества входят чистые идеи подлинного познания, подлинной теории и подлинной науки и, охватывая все, подлинной философии. Подобным же образом он первым признает их и рассматривает как наиболее важные с философской точки зрения, поскольку они являются темой самого фундаментального исследования. Платон также является творцом философской проблемы и науки о методе, то есть метода для систематического осуществления высшей идеи, содержащейся в самой сущности познания, которая определяет цель "философии". Для него становятся эйдетическими коррелятами подлинное познание, подлинная истина (значимая сама по себе, окончательно определяющая) и сущее в подлинном и истинном смысле (как тождественный субстрат окончательно определяющих истин). Высший синтез всех значимых самих по себе истин, достижимых посредством наиболее подлинного возможного познания, необходимо составляет теоретически артикулированное единство, которое должно быть осуществлено методически, – единство универсальной науки. Эта наука, согласно Платону, и есть философия. Ее коррелят – тотальность всего истинно сущего, истинного сущего.
Так на сцене появляется новая идея философии, которая будет определять все последующее развитие. Отныне она не может оставаться просто какой-либо наукой, наивным продуктом интереса, направленного просто на познание; также, как прежде, лишь универсальной наукой; но она должна быть, сверх того, наукой, способной абсолютно обосновать самое себя. Она должна быть наукой, которая на каждом шагу и во всех отношениях стремится быть окончательной, и это в силу истинных обоснований, которые, как абсолютные, во всякий момент являются задачей познающего с совершенным усмотрением (Einsicht) (и тех, кто сопутствует ему в этом познании).
С платоновской диалектикой, открывающей новую эпоху, уже проглядывает, что философия в этом высшем и подлинном смысле возможна лишь на основе фундаментальных подготовительных исследований условий возможности философии. В них, как заключенная в живой зародыш, содержится очень важная для будущего идея обоснования и структурирования философии на двух ступенях, то есть "первой" философии и "второй" философии. Как Первая Философия выступает универсальная методология, абсолютно обосновывающая самое себя, или, теоретически сформулированное, наука о тотальности чистых (априорных) принципов всякого возможного познания и о тотальности систематически включенных в них истин, то есть истин, выводимых из них априори. Как видно, так очерчивается единство, образуемое эйдетической связью всех фундаментальных истин, нерасторжимое единство всех могущих осуществиться априорных наук.
На второй ступени дается тотальность фактических "подлинных" наук, то есть тех, которые "объясняются" посредством рационального метода. Отнесенные в своих обосновывающих доказательствах к первой философии, к априорной системе возможного рационального метода, они извлекают из его постоянного применения всеобщую рациональность, именно ту специфическую "объясненность", которая способна показать как окончательно обоснованный каждый методический шаг, исходя из априорных принципов (то есть всегда с усмотрением его аподиктической необходимости). Одновременно эти науки сами приобретают – в идеальном случае – единство рациональной системы, проистекающее из признанного систематического единства первых априорных принципов. Они суть дисциплины "второй философии", чей коррелят и область есть единство фактической реальности.
Но возвращаясь вновь к самому Платону, мы должны подчеркнуть, что он отнюдь не хотел быть лишь реформатором науки. В конечном счете, он всегда оставался сократовцем и в своих теоретико-научных устремлениях, то есть оставался в самом общем смысле этиком-прагматиком. Так что его теоретическое исследование заключает в себе более глубокое значение. Сказать кратко: его фундаментальное убеждение – еще не увиденное во всем его объеме и полном смысле – заключалось в том, что окончательное обоснование, обеспеченность, оправдание всей рациональной человеческой деятельности осуществляется в формах и посредством теоретического разума, предикативно судящего, и реализуется в конечном счете через философию. Развитие человеческого рода до высот истинной и подлинной человечности предполагает развитие подлинной науки как фундаментально связанной и укорененной тотальности. Она есть то место, откуда всякая рациональность черпает свои познания. Там же и призванные руководить человечеством – архонты – учатся пониманию для рациональной организации совместной жизни.
В этих интуициях уже намечается идея новой культуры, культуры, в которой не только как одна из культурных форм возникает наука и все более сознательно стремится к своему телосу "подлинной" науки, но в которой наука призвана и все более сознательно стремится принять на себя функцию hegemonikon всей культурной жизни и тем самым всей культуры вообще, подобно тому, как в индивидуальной душе nous делает это по отношению ко всем прочим частям души. Развитие человечества как процесс культурного образования (Kultivierung) осуществляется не только как развитие индивидуального человека, но как развитие "человека в большом" (des Menschen im Großen). Первое условие возможности образования культуры, стремящейся быть истинной и "подлинной", есть создание подлинной науки. Она есть необходимое средство для возведения всей остальной культуры в подлинную культуру и наилучший путь для достижения этого. Одновременно, она сама есть форма этой подлинной культуры. Все истинное и подлинное должно быть способно доказать себя как таковое и возможно лишь как продукт очевидности подлинности цели. Окончательное доказательство и познание подлинности осуществляются как предикативное познание, которое, как таковое, подчинено научным нормам. Его высшая рациональная форма – та, что достигается посредством эйдетического обоснования, то есть философия.
Мысли такого рода (здесь, разумеется, развитые) были в своих существенных чертах предвосхищены, подготовлены и, более того, обоснованы в своих примитивных формах Платоном. Также в его гении зародилась, несомненно, характерная тенденция европейской культуры ко всеобщей рациональности посредством науки, придающей себе рациональную форму. И лишь как следствие ее последующих воздействий эта наука принимает форму – все сильнее развивающуюся – признанной общим культурным сознанием нормы и, наконец (в эпоху Просвещения), также и форму телеологической идеи, сознательно направляющей развитие культуры.
В этом отношении особенно новаторским было осознание того, что индивидуального человека необходимо рассматривать как функционирующего члена внутри единства сообщества, равно как и его индивидуальную жизнь внутри единства совместной жизни. А также, что поэтому и идея разума касается не только индивида, но является коммунитарной идеей, под которой нормативно должны быть судимы и человечество в социальном единстве, и исторические формы оформления социальной жизни. Как известно, Платон называет сообщество с точки зрения его нормальной формы развития, то есть государство, "человеком в большом". Очевидно, его ведет природная апперцепция, которая неизбежно определяет, и вообще, мышление и действие прагматической политической жизни, и которая видит народы, города и государства – по аналогии с индивидуальным человеком – как мыслящие, чувствующие и способные к практическому действию и решению. И действительно, как всякая изначальная апперцепция, она имеет в себе изначальное право. Так Платон оказывается основателем учения о социальном разуме, о подлинно разумном человеческом сообществе, то есть о подлинной социальной жизни вообще, короче говоря, основателем социальной этики как завершенной и истинной этики. Для Платона она несла отпечаток его эйдетической идеи философии в полном смысле сказанного ранее. То есть, если Сократ обосновал разумную жизнь на знании, оправданном самим собой, то для Платона этим знанием становится философия, абсолютно оправданная наука. Кроме того, на место индивидуальной жизни встает совместная жизнь, на место индивидуального человека – человек в большом. Так философия становится рациональным основанием, эйдетическим условием возможности подлинного и истинно разумного сообщества и истинно разумной жизни. Хотя у Платона это ограничено идеей государственного сообщества и мыслится как временно обусловленное, легко расширить универсальный объем его фундаментальной концепции до сколь угодно широкого коммунитарного человечества. Тем самым открывается путь к идее нового человечества и новой человеческой культуры, и притом как человечества и культуры, проистекающих из философского разума.
Как можно было бы усовершенствовать эту идею чистой рациональности, насколько простирается ее практическая возможность, в какой мере ее следует признавать высшей практической нормой и можно ли сделать ее действенной – все эти вопросы остаются открытыми. Во всяком случае, фундаментальная платоновская концепция строгой философии как функции совместной жизни, которая должна быть ею реформирована, имеет de facto постоянное и растущее воздействие. Сознательно или бессознательно она определяет существенный характер и судьбу развития европейской культуры. Наука распространяется на все жизненные сферы, и там, где она развилась или считает себя развившейся, она претендует на высшую нормативную власть.
Глава вторая. Обоснование логики и границы формальной апофантической аналитики.
Лекция 3а. Традиционная стоико-аристотелевская логика как логика следствия или непротиворечивости.В предыдущем уроке мы познакомились с платоновской идеей философии. Теперь же нас интересует прежде всего развитие европейской науки, то есть, как и в каком смысле развертываются платоновские импульсы.
Новая философия, происходящая из платоновской диалектики, – логика, общая метафизика («первая философия» Аристотеля), математика, естественные и гуманитарные науки (такие как физика, биология, психология, этика и политика) – были лишь несовершенными реализациями платоновской идеи философии как абсолютно самообосновывающейся науки. Можно сказать, что радикализм платоновского намерения достичь высшей и всеобъемлющей рациональности всего научного знания ослаб именно потому, что были пройдены предварительные ступени рациональности – как в систематическом расширении логики до профессиональной функции общей методологии, проясняющей конкретную научную работу, так и в самой деятельности каждой из научных дисциплин. Последние развивались под постоянным предварительным исследованием и критическим пересмотром своих методов. В этом отношении – и особенно в изначально предпочитаемых сферах математического знания – они вскоре достигли рациональности, превосходившей ту, которую могла обосновать избранная в качестве руководящей логика на основе научно установленных норм. Более того, развитие как логики, так и наук, естественно, с самого начала шло параллельно. В способе подхода к критическому обоснованию и, следовательно, к основополагающему, то есть к чистым всеобщностям, уже в первых теоретических достижениях древнейшей математики, в ее выводах и доказательствах, должен был утвердиться устойчивый система идеальных форм и законов образования. Не могло не привлечь внимания то, что элементарные и сложные образования суждений, возникающие в результате судящей деятельности, связаны очевидной необходимостью с фиксированными формами, если они должны быть истинными и могут быть поняты как соответствующие положениям дел. В подлинно платоновском духе чистые формы суждений обрели свою идеальную понятийную форму – хотя и не полностью – и были открыты чисто рациональные законы, лежащие в их основе, в которых выражаются формальные условия возможности истинности суждения (а также его ложности). Таким образом возникли основы чистой, то есть формальной логики или, как мы можем сказать, основы чисто рациональной теории науки, чьи нормы в силу именно своей формальной всеобщности должны иметь универсальную значимость. Наука вообще, всякая мыслимая наука, стремится достичь истин; в своей высказывающей деятельности она хочет производить высказывания, которые не просто выносятся как суждения, но обосновываются и всегда могут быть обоснованы как очевидные высказывающими субъектами. Ясно, следовательно, что формальные логические законы, именно как законы, конституирующие чистые формы возможных истинных суждений, должны иметь нормативное значение и необходимую значимость для всякой возможной науки.
Стоическая логика, продолжающая формирование этого великого шедевра – аристотелевской аналитики, имеет ту большую заслугу, что она первой и с известной чистотой развила необходимую идею подлинной и строго формальной логики. Своим важным учением о "лектон" (λεκτόν) – которое, однако, было оставлено в стороне и даже полностью забыто – она заложила для нее основы. В этом учении впервые точно осмысляется идея предложения (пропозиции) как суждения, высказанного в акте суждения (суждение в ноэматическом смысле), а силлогистические закономерности относятся к их чистым формам.
По существу, эта логика, как и вся традиционная логика, не была подлинной логикой истины, а лишь простой логикой непротиворечия, согласованности, следствия. Говоря точнее, ядром логики, которая, так или иначе, претерпевала изменения, были воспроизводимые на протяжении веков рациональные теории, ограниченные формальными условиями возможности последовательно удерживать однажды высказанные суждения согласно их чисто аналитическому смыслу. И это – "прежде" любого вопроса об их объективной истине или возможности. Поскольку это чрезвычайно важное различение, на которое «уже» нацеливалось кантовское учение об аналитическом мышлении, но которое ни он сам, ни кто-либо после него не смогли научно прояснить как это было необходимо, я хочу здесь сделать систематическое отступление, которое, надеюсь, удовлетворит требование фундаментальной ясности.
Представим, что некто выносит суждения одно за другим и выстраивает их так, что уже вынесенные сохраняют для него внутреннюю значимость. Тогда для него это не просто последовательности суждений, а последовательности, которые продолжают мыслиться в единстве совокупности значимости, в единстве общего суждения. Единое сужденческое целое пронизывает все отдельные суждения. Это не суждения, которые просто появляются одно за другим в потоке сознания; скорее, после сужденческого акта они остаются под властью ума и, таким образом, хотя и собираются одно за другим, остаются как бы схваченными единым взглядом. Они обладают единством, которое рационально конституируется в процессе суждения и которое связывает смысл одного суждения со смыслом другого. Это единство составного, интегрального суждения, основанного на отдельных суждениях и сообщающего им всем объединяющее свойство общей внутренней значимости. Таким образом, множественные высказывания трактата и, по-своему, всякая теория и всякая целостная наука обладают этим единством, охватывающим тотальность высказанных суждений.
Очевидно, что внутри каждого такого общего сужденческого единства ("Unidad judicativa" -> "Сужденческое единство" / "Единство суждения".) суждения могут находиться в особых отношениях друг с другом или вступать в них впоследствии. Они могут образовывать сужденческие единства особого типа, такие как единства следствия и несогласованности. Так, всякое умозаключение есть сужденческое единство следствия. Дело не в том, что в умозаключении так называемое заключительное суждение просто следует за суждениями, составляющими посылки. Не просто выносятся последовательные суждения, а из посылочных суждений "выводится" конечное суждение. «Заключается» то, что уже было в них заключено – и именно посредством суждения. То, что в них уже было «предрешено», теперь истинно и эксплицитно выносится как суждение. Например, если мы выносим суждение: «Всякое А есть В» и одновременно говорим: «Всякое В есть С», то мы можем «затем» и как очевидно включенное в то же суждение заключить: «Всякое А есть С». Таким образом, конечный вывод – не суждение само по себе, а суждение, "произведенное" посылками. Пока наше мнение ("Meinung") остается выраженным в этих посылках, пока они сохраняют для нас значимость, мы не можем просто продолжать судить, что всякое А есть С; скорее, мы видим, что это суждение всегда может быть произведено из этих посылок, то есть что оно в известном смысле «лежит в них» как «предрешенное».
Иногда, вынося суждения, мы переходим от одних посылок к новому суждению, полагая, что оно в них заключено. Но если мы точнее исследуем суждения-посылки, которые уже вынесли, а затем это новое суждение, если проясним, что́ мы собственно хотели высказать, то увидим, что окончательное суждение на самом деле в них не содержалось. Однако в других случаях, а именно во всяком "интеллективно обоснованном" (einsichtig) умозаключении, мы можем усмотреть, что окончательное заключение действительно вытекает из этих посылок, действительно определено как должное быть включенным актом их суждения. Мы признаем тогда, что "быть-включенным" есть относительный модус бытия, который действительно соответствует окончательному суждению как "идентичному высказыванию" по отношению к суждениям-посылкам как таковым, равно как и, наоборот, эти последние – как идентичные суждения – имеют ту особенность, что по своему имманентному смыслу им соответствует быть несущими в себе это окончательное суждение имплицитно. Мы признаем равным образом, что это суждения, начинающие "очевидный" и всегда возможный переход, который может быть осуществлен в актуальных суждениях и из которого окончательное суждение очевидным образом возникает в своем характере "следствия".
Противоположный следствию характер, который подлинно принадлежит суждению как таковому, есть "неследственность" или "противоречие". Если, например, мы вынесли суждение, что всякое А есть В, может случиться, что, пока мы еще убеждены в этом, мы вынесем суждение – потому что нам это показывает особый опыт – что это А здесь не есть В. Но в тот момент, когда взор возвращается к первому суждению и проясняет его смысл, мы распознаем, что новое суждение противоречит первому, равно как и первое – последнему. Если в силу опыта мы должны держаться нового суждения, то вскоре случается, что перед лицом положения дел мы оставляем первое суждение и заменяем его на отрицательное: не всякое А есть В.
Наконец, мы должны упомянуть еще одно отношение, которое дано одновременно с двумя отношениями "быть-включенным" и "быть-исключенным" или инклюзии и эксклюзии. Между двумя высказываниями – А и В – может случиться, что они не находятся ни в отношении инклюзии, ни в отношении эксклюзии, как, например, высказывания: U есть X и Y есть Z. В этом случае они имеют отношение "совместимости", которое называется "непротиворечивостью".
Мы тотчас распознаем, что это не эмпирически случайные происшествия нашей судящей жизни, но что здесь речь идет о "сущностных законах", о чисто идеальных, общезначимых и универсально очевидных "легитимностях", о чистых законах, относящихся к следственности, неследственности и непротиворечивости и для которых исключительно чисто сужденческие формы являются определяющими. Так, например, в сказанном относительно неследственности мы непосредственно распознаем закон: если В противоречит А, то оно "исключено" А, и если А полагается, то полагание В упразднено. Следуя таким законам, мы распознаем, что следственность и противоречивость суждения, быть-включенным, быть-исключенным и совместимость суть сужденческие отношения, которые связаны между собой посредством взаимозависимых идеальных законов. Кроме того, при ближайшем рассмотрении можно различить "опосредованные" и "непосредственные" следствия и противоречия, и, принимая все это во внимание, мы приходим, систематически следуя различным формам суждений и формам возможных комбинаций посылок, к многообразной легитимности, становящейся единством последовательной систематической теории.
Но теперь важно учесть следующее: Чистая "следственность" суждений и "противоречие" как неследственность, равно как и "совместимость", относятся к суждениям как "чистым суждениям" и без последующего вопроса о том, являются ли они также возможно истинными или ложными. Мы должны здесь четко различать две вещи:
1. "Ясное усмотрение" (Einsicht) суждений в смысле "удостоверения" (Verifikation), посредством которого убеждаются, истинны они или нет, возвращаясь к «самим вещам»; равно как и проясняющее исследование "модальных суждений" для того, чтобы сделать очевидными их возможность, их возможную истинность или ложность и, возможно, их априорную возможность или невозможность (абсурдность).
2. Нечто совершенно иное есть простое "«аналитическое прояснение»" суждений посредством внимания к чисто высказанному: что в них включено как следствие – "высказывания-следствия" – или что через них исключено как противоречие. Я говорю об "аналитическом смысле" суждения (чистой значимостной единицы) высказывательного предложения и понимаю под этим "понятие", которое можно образовать из каждого суждения или каждого высказывания и которое при повторении всегда можно идентифицировать как очевидное и образование которого совершенно безразлично к тому, прибегают ли или нет, посредством проясняющей или удостоверяющей интуиции, к сфере судимых фактов.
Мы отделяем, таким образом, как можно также сказать, «чистое суждение» (чистую значимостную единицу) от его соответствующей фактической возможности или даже от его истинности – от других понятий, обозначаемых двусмысленным выражением «смысл».
Вся традиционная силлогистика, то есть почти вся традиционная формальная логика согласно своему сущностно-априорному содержанию, формулирует в действительности лишь законы об условиях сохранения непротиворечивости, то есть законы для правильного обнаружения и сохранения следственности и для исключения неследственностей. Согласно этому, в формальную дисциплину "сущностных условий непротиворечивости и совершенно последовательного мышления", которую здесь необходимо четко отграничить, в действительности не входят понятие истины и понятия возможности, невозможности и необходимости. Рациональная закономерность следственности становится видимой постольку, поскольку суждения принимаются во внимание как чистые высказывательные значения (Bedeutungen) и полностью проясняются их чистые формы. Но здесь остается вне рассмотрения то, "как" суждения могут стать соответствующими фактам, "как" можно решить вопрос об их фактической истинности и ложности, возможности и невозможности.