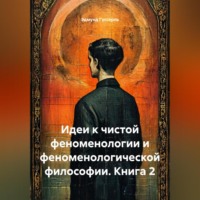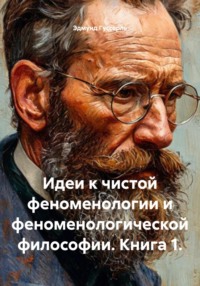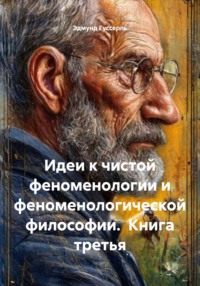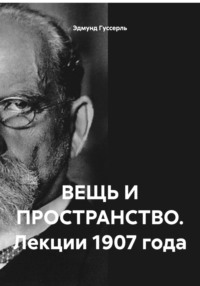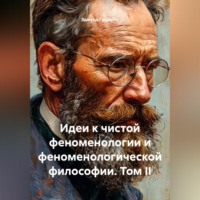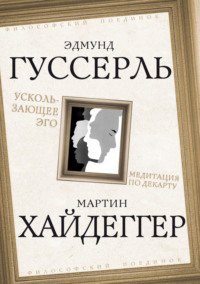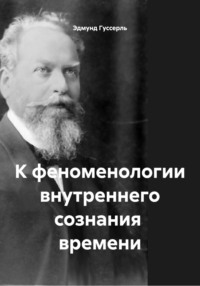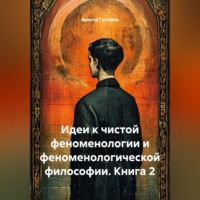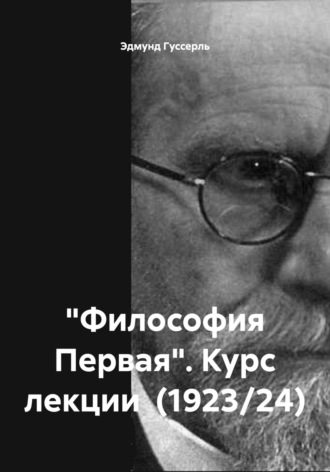
Полная версия
«Философия Первая». Курс лекции (1923/24)
Само собой разумеется, что истина и модусы истины, с одной стороны, и чистая инклюзия, эксклюзия и сосуществование суждений, с другой, не лишены внутренних связей. Они вытекают из того, что, например, никакое суждение и также никакая синтетически единая система суждений – которая одновременно представляет собой одно суждение – то есть никакая теория, в которой можно доказать наличие противоречия, не может быть истинной.
Всякое противоречие ложно. Под противоречием мы понимаем просто сложное суждение, состоящее из суждений, среди которых по меньшей мере одно исключает другое, противоречит ему. Но мы можем также сформулировать следующий закон: если B противоречит A и A истинно, то B ложно, и если B истинно, то A ложно. Соответствующие законы действительны и тогда, когда вместо истины мы берем возможность и необходимость или их противоположности.
Кроме того, мы имеем подобные законы для отношения следствия, для чистой включенности суждения; прежде всего, основной закон: когда включающее высказывание истинно (возможно), включенное высказывание истинно (возможно); и когда включенное высказывание ложно (невозможно), ложно включающее высказывание и все его посылки.
Все эти законы связи должны быть тщательно установлены как собственные принципы, отделенные от чистых положений о следствии. Также и при образовании понятий должны быть разграничены различные сферы понятий значимости. В логике следствия закон: если конечное положение не имеет силы, то и посылки не имеют силы – означает: отказ от заключенного суждения обусловливает отказ от заключающего. Это связано с другим законом, гласящим, что всякое отношение заключения обратимо; отрицание конечного положения влечет за собой отрицание посылок. Но в логике истины речь идет не о той значимости или незначимости, которая делает возможное суждение суждением или отрицает за ним право быть установленным как суждение в качестве уже высказанного, а о значимости как истине и как истине его производных.
Итак, по отношению к таким группам формальных и всеобщих законов связи, само собой разумеется, формальная логика чистого следствия и непротиворечия выступает как ценная предварительная ступень логики истины, но лишь как предварительная ступень. Однако подлинный познавательный интерес направлен на то, чтобы сделать возможными истинные и без исключения истинные суждения и, прежде всего, сделать возможным универсальное познание, то есть создание системы всеобщей и абсолютно обоснованной истины, философии в платоновском смысле. Поэтому помимо логики следствия, несомненно, высоко рациональной и определяемой чистыми сущностными законами, была бы необходима чисто рациональная методология для достижения истины. С этой точки зрения продвинулись недалеко, даже в отношении самой общей и действительно очень трудной проблемы – сделать возможной истину вообще – не говоря уже о более широких проблемах, таких как возможность истинной науки и даже философии.
Лекция 4а: Отступление: Универсальная логика следствия как аналитическая математика, коррелятивное рассмотрение формальной онтологии и проблема "логики истины".На предыдущей лекции мы занимались рациональными теориями формальной логики, которые, задуманные Аристотелем под именем Аналитики и впоследствии расширенные и очищенные, составили, так сказать, постоянный резерв традиционной логики. По своей сути эта логика была рациональной систематикой сущностной закономерности, управляющей следствием, неследованием и непротиворечием. Я попытался разъяснить – что сама традиция, конечно, не увидела – что тем самым она ограничила свою область как специфическая дисциплина, которая, взятая в своем чистом смысле, еще не включает в свой теоретический резерв понятие истины, равно как и ее различные производные и модальности. Производными истины являются понятия возможности (возможной истины), необходимости, вероятности и т.д., с их отрицаниями.
Установленное нами различие между логикой следствия и логикой истины основывалось, повторю это вновь, на том, что суждения как чистый суждающий смысл (пропозиции) – или, как можно также сказать в сфере высказывающего суждения, тождественные значения высказывательных пропозиций – постигаются как самоочевидные посредством "чистого прояснения". Как мы показали, эта самоочевидность предшествует всякому вопросу о возможной или действительной истине или, что то же самое, независима от того, является ли суждение по отношению к соответствующему положению дел интуитивным суждением и исполняется ли тогда его интенция (Meinung) более или менее в полноте интуиции или нет.
Сущность этой самоочевидности чистого прояснения состоит в том, что для ее обретения никоим образом не требуется верифицировать истинность и даже возможную истинность соответствующих высказывательных значений, то есть не нужно переходить к иллюстративной или верифицирующей демонстрации этого высказывательного значения (того, что "имеется в виду" посредством суждения). Это было бы совершенно иным по своему способу и направлению актом придания очевидности. Для терминологического различения мы можем противопоставить термин "аналитическое прояснение", выявляющее тождественный "аналитический" смысл высказывания (например, в высказывании "2 меньше 3"), – "объективному прояснению" или верификации возможности или истины, которая в нем представляется. Здесь выражается совершенно иное понятие смысла. Особенно в отрицательном обороте говорят, например, что "2 больше 3" – это нечто "не имеющее смысла", то есть оно, естественно, имеет аналитический смысл, это совершенно ясная пропозиция согласно тому, что подразумевается высказывательным суждением. Но объективный смысл, возможность и истина здесь отсутствуют, как становится очевидным при прояснении, в иллюстративной демонстрации "2", "3" и "больше". Для самоочевидности, направленной на аналитический смысл – самоочевидности аналитического прояснения – можно также сказать, что достаточно чисто символического, чисто словесного суждения, которое ничего не доказывает ни о необходимости, вероятности значимости, ни об обратном.
Итак, относительно этого различия было сказано, что вся силлогистика, понятая в своей чистоте, "аналитична" – если мы хотим использовать аристотелевский термин. Она относится к чистым и идеально тождественным высказывательным значениям, то есть к суждениям как стабильному результату аналитического прояснения. И это именно потому, что отношения типа следствия и неследования, включенности и исключенности касаются, точно так же, в модусе непротиворечия аналитической совместимости, только этих суждений как чистого понятия, чистого смысла суждения.
Но традиционная логика не хотела быть просто логикой аналитического следствия и непротиворечия. Она всегда говорила об истине и ее производных – и это не только как о дополнении по отношению к следствию, но она хотела быть "методом истины". Очевидно, первое она не могла даже "хотеть", потому что теоретически не располагала двойственной самоочевидностью, включающей суждение (о которой мы только что говорили), и потому также не располагала различными соответствующими понятиями смысла суждения. Следовательно, она не отдала следствию – при необходимом методологическом различении – то, что ему принадлежит. Также, не отделив их, она не отдала истине и ее модальностям то, что им специфически принадлежит, а именно то, что, исходя из самоочевидности адекватности объекту, может быть высказано о суждениях в форме "априорных" законов всеобщей формальной значимости.
Поэтому историческая логика страдает от большой несовершенности в своем методическом действовании, именно она, которая как универсальная и фундаментальная методология всякого познания, должна была удовлетворять в своем собственном действовании высшим методическим требованиям. Из-за того, что она сохраняла двусмысленности и недостаточности по отношению к самой себе, ее методические нормы для всего познания вообще оставались частично недостаточными и двусмысленными.
В самом деле, помимо упомянутого, логика продвинулась недалеко. Как мы увидим, она осталась несовершенной даже в том единственном фундаментальном измерении, в котором она развивалась теоретически и в котором можно констатировать важный дефект неприемлемой ограниченности. Традиционная логика не смогла теоретически удовлетворительно обосновать корреляцию между определительным предикативным суждением и субстратом суждения и, следовательно, также корреляцию между предикативной истиной и истинным объективным бытием. Смысл всякого предикативного высказывания относится (сам по себе) к некоторому объекту, о котором оно нечто высказывает, о котором произносит суждение и который определяет как то или иное. Формальные теории, касающиеся следствия и истины предикативных суждений вообще, требуют коррелятивно также формальных теорий о номинальных объектах возможных суждений, мыслимых в чистом следствии или непротиворечии, то есть как возможная сужденческая позиция; кроме того, также теории об объектах, не только мыслимых в своей согласованности (консистентности), но существующих как возможная истина.
Более подробное разъяснение: можно спрашивать о том, что "априори" и в "формальной всеобщности" имеет силу относительно объектов. "В формальной всеобщности" означает: относительно всех вообще мыслимых объектов и чисто как мыслимых, то есть лишь относительно их объективного смысла, как он может являться в возможном смысле суждения (в пропозиции в логическом смысле) в качестве субстрата свойств и относительных конституций и т.д., которые ему приписываются (абсолютно, гипотетически или условно, с достоверностью, правдоподобием, вероятностью и т.д.). Всякое суждение есть суждение о том-то и том-то, и соответствующий субстрат принадлежит, как момент смысла, как объективный смысл, целостному единству смысла, называемому здесь суждением. Такой объективный смысл есть то, что аналитическая математика называет "объектом мысли" (в теории множеств, арифметике, теории многообразий). Точнее, здесь речь идет не только о вопросе о возможных синтетических связях возможных суждений, объединенных тождественными (считающимися тождественными) субстратами согласно их смыслу, но о синтетических связях, в которых суждения мыслятся как связанные согласованно, то есть коррелятивно определяются тождественные объекты непротиворечивыми определениями.
Если мыслить объективный смысл в формальной всеобщности как смысловой субстрат суждений, чья смысловая форма является какой угодно или была выбрана из числа некоторых возможных и априори абстрактно конструируемых форм, то возникает вопрос об априорных системах форм, в которых возможно согласованно полагать те же самые субстраты и согласованные формы определения, которые они в них принимают. Всякая согласованная форма определения есть одновременно закон для объектов вообще, и это как определимого без противоречия в такой форме. Систематическое установление непосредственно очевидных согласованных систем способов определения возможных объектов вообще и конструктивно-аналитическое дедуцирование всех форм определения, включенных в них в модусе следствия, есть задача "теории многообразий". Теория "нечто" или "нечто вообще", то есть объектов вообще как субстратов возможной предикации, которые должны быть способны быть объектами согласованных суждений в непрерывной предикации, есть "формальная онтология". Это лишь коррелятивный способ рассмотрения теории согласованных суждений вообще и форм, в которых они связываются, образуя системы последовательно согласованных суждений. Апофантическая логика, понятая как всеобъемлющая, сама по себе есть формальная онтология и, наоборот, полностью развитая формальная онтология сама по себе есть формальная апофантика.
Категориальные понятия, то есть возможные априорные формы определения, в которых определяются объекты мысли в возможных осуществимых согласованно суждениях, отличаются от понятий, которыми определяются сами суждения; таким образом, онтологические категории противопоставляются апофантическим категориям. Но, с другой стороны, "пропозиция" или "суждение" – мы можем сказать также "положение вещей мышления" или положение вещей "мыслимое" как таковое – само по себе есть онтологическая категория, поскольку каждое из них делает возможными формы суждений, в которых оно функционирует как определяющий субстрат. Исследовать все возможные формы конструирования, посредством которых объекты мысли порождают объекты мысли и определения, которые для них получаются, – естественно, также задача формальной онтологии. Она занимается всеми возможными формами суждений, в которых, с другой стороны, должны находиться все возможные определения объектов мысли.
Но этого достаточно. Видно, что здесь нераздельные корреляции связывают объект и суждение (или "объекты" и "положения вещей" – оба рассматриваемые теперь как чистые позиционные смыслы, как чистые "мыслимые образования") – и что это единая априорная наука, которая, относясь к самой себе, трактует об объектах и положениях вещей, направляясь либо специально к формам положений вещей или суждений и их законам следствия, либо к субстратам объектов и их последовательному определению. Все понятия, которые здесь появляются, логико-аналитические категории, суть понятия, извлеченные чисто из "смысла". Точно так же, как относительно пропозиций говорится лишь о "согласованности" (Konsistenz), а не об "истине", относительно объектов говорится лишь о "возможности быть мыслимым без противоречия", а не об их объективной возможности или их реальности. Таким образом, формальная онтология или формальная апофантика, каждая, взятая подлинно в своей полной протяженности, есть "аналитика".
С какой методологической несовершенностью действовала традиционная логика, как далека она осталась от идеи универсальной формальной логики – которая, вправду, лишь с Лейбница начала проникать недостаточно [в сознание] под именем "mathesis universalis" – и от включенной в нее формальной онто-логии, можно заключить из того факта, что среди специальных научных дисциплин, которые противостояли логике, выступили также некоторые – несомненно, математические дисциплины – которые, как арифметика, целиком подпадают под идею формальной онтологии как важные, но малые секторы последней. Так что то, что в историческом сознании научного человечества предстает далеким под названиями логика и арифметика, и столь же далеким, как логика и физика или логика и политика, должно было бы, вправду, быть теснейшим образом соединено. Арифметика и апофантическая логика (например, силлогистика) обе подпадают, как дочерние дисциплины, под идею логики и логики, уже понятой как чисто аналитическая. С другой стороны, то, что в историческом сознании было теснейшим образом соединено, как арифметика и геометрия, должно было бы быть разделено. Геометрия требует пространственной интуиции, ее понятия должны опираться на объективную сферу, на пространственность. В арифметике же, напротив, модальности "нечто" вообще, как множество и количество, выражаются в понятиях, и, в принципе, необходимая очевидность – того же типа, что и та, которую можно получить в логико-апофантических понятиях следствия суждения. При внимательном рассмотрении, вся арифметика и, значит, вся аналитическая математика есть, в сущности, аналитика с другой ориентацией, логика следствия с другой ориентацией, то есть вместо того, чтобы направляться к предикативным полаганиям, к суждениям, она отнесена, скорее, к полаганию "объектов мысли". Но я не могу здесь дальше этим заниматься, так что должен удовольствоваться этими простыми намеками.
Упомянутые недостатки традиционной логики теснейшим образом связаны с некоторыми весьма радикальными методологическими недостатками, которыми страдала трактовка идеи истины и истинности, равно как и других идей модальных вариаций, существенно связанных с ними. Если логика, последовательно великим интенциям платоновской диалектики, хотела быть, вправду, универсальной и радикальной методологией для достижения истины, она не могла направлять свое исследование лишь на упомянутый план корреляции между истиной и истинностью, но должна была тематизировать также другую, коррелятивную, в свою очередь, предыдущей, корреляцию. Суждение есть судимое в судящей деятельности, и эта деятельность есть субъективная жизнь. Изначально истинное суждение – это то, которое удостоверяется в усмотрении (Einsicht), и истинно существующая объективность – это та, которая дается субъекту, испытывающему ее в самом переживании опыта или какого-либо иного способа интуирования или постижения, и определяется в усматривающем суждении. Объективно истинное суждение "есть" то, которое необходимо удостоверяется или может быть удостоверено для каждого в усмотрении и т.д. Необходимо исследование суждения и истины, исследование объекта и реальности, не только относительно суждения как тождественного смысла высказывания и относительно объекта как тождественного смысла субстрата, но также относительно субъективного в суждении, в усмотрении, в интерсубъективном и окончательном удостоверении, в полагании и испытывании объекта – и здесь особенно относительно субъективных модусов, в которых все это дается – в познающем переживании, в сознании – как сам мыслимый и истинный объект, как суждение в качестве пропозиции и истины.
Начиная с пионерских и восхитительных исследований Аристотеля в "Органоне", логическое исследование продолжалось преимущественно в том измерении, которое отмечают понятия пропозиции, истинной пропозиции, объекта, реально существующего объекта. И действительно, это было весьма естественным продолжением после периода субъективной рефлексии. Тот, кто, как ученый, должен защищаться от универсального скептицизма – а защита от скептицизма была "целью" греческого мышления при развитии фундаментальной методологии – и, таким образом, начинает радикально спрашивать, каким образом можно достичь истины и истинности в познавательной деятельности, направляется, в первую очередь, к предполагаемым содержаниям научных достижений, к пропозициям и теориям, но затем неизбежно приводится к ориентированным субъективно рефлексиям, имеющим своей целью сторону познания. Тогда ему становятся ясными различия между очевидностью и слепым мнением, между согласованным и противоречивым суждением и т.д. Из этого возникает первый способ обоснования познания, прокладывающий путь первому фундированию науки.
Глава третья. Первые размышления о познающей субъективности, вызванные скептицизмом софистов
Лекция 5а: Открытие эйдетического познания и греческие истоки философских рациональных наук.В конце предыдущего урока я начал говорить о том, что хотя исследования платоновской диалектики – эти радикальные методологические размышления – вскоре вылились в логику, то есть в научную методологию, эта логика, в силу своей односторонности, так и не смогла реализовать преследуемую ею идею: полностью удовлетворительной методологии и той философии, которая должна была быть достигнута через нее, – философии в платоновском смысле. Я охарактеризовал как односторонность тот факт, что эта логика так и не поднялась до научной теоретизации тематического уровня, конституированного корреляцией между истиной (verdad) и истинным бытием (ser verdadero) и, в более общем смысле, между суждением (значением пропозиции) и предметом суждения. Я также упомянул другую корреляцию, относящую эти идеальные единства к познающей субъективности, а именно указал, что то тождественное, что мы называем [эйдосом]… не является любой интуицией, но особой интуицией, одним словом, выявлением (puesta en evidencia) и т.д. С той же целью будет размышлять и о ценности интуиции, представляющей саму вещь или лишь претендующей на это, как, например, в случае внешнего опыта. Возможно, осознают, что хотя внешний опыт субъективно дан как восприятие и схватывание самого предмета опыта, испытывающий субъект всегда получает лишь бытие с размытыми контурами и никогда – само окончательное бытие, и что то, что он каждый раз имеет в руках, сохраняет недостаток, будучи лишь "простым мнением" (bloße Meinung), которое никогда не достигает подлинной полноты самого бытия, даже если он усердно продолжает добывать дополнительные переживания. Поймут, что поэтому внешний опыт никогда не является сознанием, способным удовлетворить свое притязание на то, чтобы "самому" иметь, "самому" постигать сам предмет. Однако наука направлена не на истину вообще, в обычном и широком смысле слова, а на "объективную истину". Что же еще заключено в этом намерении достичь объективности?
Таковы были, следовательно, размышления, к которым принудила софистика как всеобщий скептицизм, отрицавшая всякую возможность познания объективной истины вообще и истинного бытия вообще. Целью этих размышлений было обоснование или, вернее, всеобщее, критическое и рефлективное осознание пережитого в самом познании, в самых различных модусах представления и суждения, интуитивного и неинтуитивного; размышление о основаниях говорить о совершенном или подлинном познании, отличая его от несовершенного познания и – возвышая его над всем – от объективного научного познания; наконец, о том, что должно было придать возможный смысл всем нормативным понятиям. Но хотя такого рода размышления о познании, ориентированные на субъективные модусы данности предмета (Gemeinten) в опыте и суждении, находились на переднем крае развития, это не означает, что вскоре было достигнуто широкое и успешное теоретическое освоение открывшейся здесь сферы субъективных модусов познания и, таким образом, познающей субъективности вообще и как таковой. Прошли тысячелетия, прежде чем смог быть разработан метод, пригодный для исследований в этом субъективном направлении, необходимых для критического самообоснования познания, и прежде чем стало возможным прийти к развитию радикальной и подлинной методологии познания. Не то чтобы первые критические размышления о познании, ни неустанные и глубокие предварительные исследования Платона, ни даже размышления о познании его великих последователей, которые они никогда не оставляли, остались без научного эффекта; напротив. Мы говорим лишь, что им недоставало необходимого преобразования в подлинно рациональную теорию сущности познания с субъективной точки зрения, и что вместо этого с большей или меньшей быстротой было достигнуто развитие частных наук, чье относительно удовлетворительное совершенство никоим образом не способствовало уменьшению этого недостатка. Очень скоро мы поймем важность этого. Рассмотрим сначала некоторые пояснительные детали.
Первые глубокие размышления о субъективном модусе подлинного познания принесли с собой, как свой первый и величайший успех, открытие "эйдетического познания" как познания "аподиктической" истины. Существует изначально очевидное – и также совершенное – продуцирование чистых сущностных понятий, и на них основываются сущностные законы, законы, постигаемые с аподиктической всеобщностью и необходимостью. Это открытие вскоре вылилось в основополагающее очищение и усовершенствование уже существующей математики, в ее преобразование в чистую математику, задуманную как чистая эйдетическая наука. Примем здесь во внимание, что по веским основаниям история строгих наук и главным образом наук точных в самом строгом смысле слова прослеживается вплоть до эпохи задолго до Платона, но их доплатоновским формам можно приписывать лишь значение примитивных научных форм. Так что только благодаря предварительной работе методологического и субъективного порядка, проделанной платоновской диалектикой, математика, прежде всего, приобретает свой специфически научный характер. Только так она становится чистой геометрией и чистой арифметикой, имеющими дело с идеально возможными пространственными и числовыми формами, понятыми в нормативном отношении к предельным идеям (идеалам), которые должны быть интуитивно открыты и к которым все эти возможности (возможные формы) приближаются. К этим чистым идеалам приближения ("чистые" единицы, "чистые" прямые и т.д.) относятся затем непосредственные сущностные понятия и законы, которые, в свою очередь, в качестве "аксиом" поддерживают все здание чистой дедукции. Первый классический систематизатор чистой математики, Евклид, был, как известно, платоником. Опираясь на великих предшественников, таких как Евдокс, он осуществляет в "Началах" первый разработанный набросок чисто рациональной науки согласно идеалу платоновской школы. Следует, однако, уточнить, что геометрия была первой наукой, задуманной и осуществленной "вне" общей методологии, согласно этому идеалу рациональности, обоснованному этой методологией. Она была первой наукой, которая выковала свои фундаментальные понятия в чистой эйдетической интуиции и установила идеальные законы, сущностные законы, законы, самоочевидные с аподиктической очевидностью, то есть как необходимости абсолютной значимости. Это первая наука, которая основывается на непосредственных сущностных законах, систематически упорядоченных, и, систематически выстраиваясь в формах чистой последовательности, открывает все опосредованные сущностные законы, там имплицированные, а затем рационально объясняет все особенное и фактические данности, которые могут быть вскрыты при применении этих законов, исходя из этого комплекса чисто рациональных закономерностей, выявляя их как априорные необходимости. С другой стороны, следует подчеркнуть, что идеал рациональности, возникший из предварительных критических исследований познания, сам обретает внутри методологии систематическую последовательность, и это одновременно с превращением математики в чисто рациональную математику. Я имею здесь в виду, естественно, Аналитику – основанную уже Аристотелем, прямым учеником Платона, – которая, несмотря на все несовершенство своего последующего развития как формальной логики пропозиций, истин и истинного бытия, с самого начала разрабатывает основные элементы рациональной дисциплины в том же смысле и, кроме того, методически, систематически и дедуктивно продвигаясь, доказывает сущностные законы последовательности и истины, с целью установить рациональные нормы для частного фактического суждения согласно его предполагаемым истинам и возможностям и его предполагаемым последовательностям и непоследовательностям.