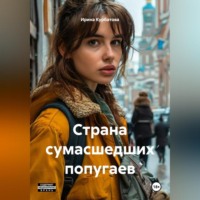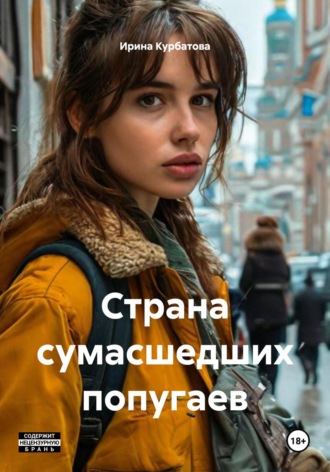
Полная версия
Страна сумасшедших попугаев
–Отчим у тебя тоже генерал?
–Генерал–лейтенант.
–А «крестный» воевал?
–Нет. Он в сорок первом только родился.
–А дальше как? Он, что тебя выпорол?
–Да нет… Популярно объяснил, что позорить фамилию мне никто не позволит, и есть только три варианта: рядовым в армию и часть где–нибудь в Муходришенске, километров эдак пятьсот от Москвы, на стройки народного хозяйства, на БАМ, например, или дорогой предков. Я мозгами пораскинул и выбрал последнее.
–Это как?
–Военное училище, но «в поля» не хотелось, поэтому поехал в Ростов, в командное инженерное ракетных войск, тем более что отчим с космической оборонкой связан, Гагарина лично знал, ну и «крестный» тоже ракетчик… Сначала училище, потом академия Дзержинского.
–Эта та, что на набережной, рядом с гостиницей «Россия»?
–Она родимая.
–А я думала там кагебешники.
–У этих отдельная нычка,–пш–пш–пш…, в опустевшие емкости медленно вползает шампанское,–За тебя.
–Нет, теперь моя очередь,–я ехидно улыбаюсь и с пафосом произношу,–За славное русское офицерство!–дзинь–дзинь, и содержимое фужера исчезает у меня внутри, голова опять шумит и слегка кружится.
Инстинктивно вынимаю из сумки сигареты и слышу,–Попробуй эти,–передо мной ложится яркая прямоугольная коробочка, а внутри длинные тонкие трубочки темно–коричневого цвета, достаю одну, с наслаждением затягиваюсь и чувствую, что лечу в пропасть…,–А ты зря иронизируешь, я действительно потомственный офицер, нашему служению почти два века.
–Серьезно? Ты так свою родословную знаешь? Я вот дальше прадеда и прабабки ни сном, ни духом. Знаю только, что по линии матери у меня сплошь крестьяне, а по линии отца мастеровые, так что согласно революционной терминологии, происхождение у меня мелкобуржуазное.
–У меня по–разному, по матушкиной линии и пролетарии, и интеллигенты, и даже купцы есть. А вот отец другое дело, у него в предках декабрист Никита Муравьев, тот который считается автором первой русской конституции.
–Ух, ты! А почему ты Ленский?
–Ну, во–первых, потому, что потомство у Никиты Муравьева было только по женской линии, а, во–вторых, Ленский–это фамилия мамы. Отец всю войну прошел и ни царапины… Они с отчимом еще курсантами познакомились и дружили потом до самой смерти…, до смерти отца…, его расстреляли в пятьдесят втором, тогда практически все командование на Дальнем Востоке расстреляли. Вот матушка меня на свою фамилию и переписала, может это спасло, может то, что отчим отправил нас к своей родне в Вологду, пересидеть. А поженились они только через десять лет, а еще через два года сестра моя родилась, Алка.
–Извини, если я…
–Не бери в голову… А чего это у нас непорядок?–он разлил остаток шампанского по бокалам,–Посуда чистоту любит,–а в холодильнике еще две, пронеслось у меня в голове, ну, и, что? Пусть…,–и в тишине сидим, как на похоронах,–пара манипуляций с проигрывателем… и мягкий хрипловатый баритон Джо Дассена: «Salut…»,–Ну вот, уже лучше. Предлагаю выпить за…
–Славное русское офицерство,–и теперь в моем голосе нет ни капли иронии.
–Принимается,–и опять этот манящий звон, и напиток, как змей, вползает в организм, попутно приводя его в щенячий восторг,–Ты позволишь?…
Рука на плече, рука на талии… «Salut…»…, мы всё ближе, ближе…, «Salut…»…, это он меня целует или я его…, какая разница…, «Salut…»
***
Синий, зеленый, желтый…, круги плавают, исчезают, появляются…, птицы…, красивые, гордые…, они гладят меня, и волна накатывает от шеи вниз и обратно…, розовый, красный, фиолетовый…, господи, как же здорово…, попугаи…, они мне что–то кричат, их всё меньше, меньше…, и цвет…, цвет пропадает…
У–у–ф!… Открываю глаза и понимаю, что мне хорошо и на всё плевать.
У окна о чем–то спорят, слышу обрывки фраз: «….все не ангелы, но Шутник–редкая сволочь,… ну, знаешь, она сама…, да… с головой беда…, с головой нормально, с реальной оценкой плохо…».
Блондинка первой замечает мое «пробуждение»,–О! Матка боска! Вернулась!–голос у нее звонкий, а слова произносит мягко, слегка растягивая,–Как, ты?
Благодарно улыбаюсь,–Хорошо.
–Ну, давай знакомиться,–от неожиданности вздрагиваю, как она догадалась, что я не… Ой, как неудобно,–Да, ты, не смущайся, здесь церемонии не в чести, ты думаешь, мы расслышали, как тебя зовут? А нас и вовсе не представляли,–она грустно усмехается и протягивает руку,–Ниёле. Это в паспорте, а в миру Нелька. Хозяйка квартиры. Вот она,–показывает на «рыжую»,–Антонина
Та церемонно шаркает ногой и изображает нечто вроде книксена,–Туанетта! Так меня мой Булкин зовет.
–А это,–блондинка кивает в сторону «джинсовой»,–Лёля Панаева. Она у нас богема, в ресторане «Сказка» поет, её вся Москва знает и не только Москва, там «большие» люди со всей страны бывают.
–Вообще–то я Лиора Панавер,–откликается «джинсовая»,–но с такими данными даже в кабаке не вариант, кто ж будет слушать «Москву златоглавую» в исполнении еврейки? Не любят нашего брата, а так,–она картинно изгибается и выдыхает низким грудным голосом,–«В этом мире, в этом го–о–о–роде, там, где улицы, грустят о лете…»,–моментально меняет позу и…,–«Вдоль по Питерской! По Тверской–Ямской…..», по желанию клиента любой репертуар.
Девчонки мне нравятся, видно, что ёрничают они ради прикола, а не для того чтобы повыпендриваться,–А я Инга.
–Инга?–удивляется Лёля,–А я слышала, что Ленский тебя как–то по–другому называл, необычно очень, потому и внимание обратила.
–Ика. Фамилия у меня Кондратова, поэтому первые буквы «И» и «К», а «К» в русском алфавите произносится, как «Ка», вот и получается Ика.
–Здорово!– улыбается Нелька,–это тебе больше идет.
–Ага,–киваю я,–Особенно, если знать, что в переводе с японского ика–это каракатица.
–У вас совесть есть?–незнакомая девушка в очках смотрит на нашу компанию с укоризной,–Я понимаю, зачем вы сюда набились, но, сколько же можно тут торчать?
–О! Миронова! «Супчику» хочешь? Тут малость осталось,–Леля протягивает ей бокал с «успокоительным»,–Давно здесь?
–Минут сорок. Пришла, глядь, одни мужики, укушавшиеся без присмотра.
–Почему это одни?–Антонина хитро подмигивает и начинает загибать пальцы на руке,–Захаров с какой–то девицей, Самойлов аж двух приволок, а Гордеев опять свою халду припер, итого…
–Халде все равно, она уже поняла, что Гордеева не окольцует и явно готова отвалить. А от студенточек, какой прок? Они, похоже, первый раз с взрослыми «дяденьками» гуляют, восторг, эйфория, все байки за чистую монету,–девушка отпивает из бокала,– Фу! Холодный!
–Мы на тебя не рассчитывали,–парирует Нелька,–Шутник сказал, что ты не придешь,–лицо у девушки резко бледнеет, но тут хозяйка хватает меня за руку и выталкивает вперед,–Знакомься, Инга.
–Лена,–почти шепчет девушка.
–Можно Элен, можно Элла, можно Ёлка… Эх, бабоньки,–Антонина со вкусом потягивается,– Айда, напьемся! А чего? Мужикам можно, а нам нельзя?
–А домой как?–возражает Лена.
–А никак! Здесь останемся. Нелька не выгонит.
–Куда уж мне.
–Поддерживаю!–Леля тушит сигарету и опять выдыхает своим низким грудным голосом,–«…Помню, как на масляной Москве в былые дни пекли блины…»
***
–Ты чего пустой хлеб жуешь? Вон масло и колбасу бери, Костик вчера принес, салями финское,–Люсечка отбирает у меня кусок хлеба, густо мажет его маслом, а сверху кладет куски крупно порезанной колбасы,–Я всегда крупно режу, «пуговицы» любят колбасу без хлеба лопать, да и мама ругается, если ломтики тонкие, застиранные тряпки, говорит,–потом достает из шкафчика бокал, грамм этак на четыреста, сыпет туда две чайные ложки растворимого кофе, две ложки сахарного песку, заливает кипятком и пододвигает мне,– Давай, давай! А я котлетами займусь.
Люсечка двоюродная племянница моего отца, то есть моя троюродная сестра, несмотря на такое не очень близкое родство, мы с детства, не то чтобы дружим, (разница в возрасте у нас восемь лет), скорее приятельствуем, но общаемся часто и с удовольствием.
Для Люсечки я вроде окна в мир. Что? Где? Когда? Основной источник информации: кино, театры, мода, книги.
Самой ей не до «культурной» жизни, замуж она вышла в девятнадцать, через год родился Ванька, сейчас ему двенадцать, а через пять лет появились близняшки, Варюшка и Любашка. Похожи они чрезвычайно, я, например, различаю их только по родинкам, у Любашки на правой щеке четыре родинки, а у Варюшки две.
Сразу после школы Люсечка поступила в институт культуры, но маленький сынишка постоянно болел, поэтому пришлось уйти. Сейчас она работает музыкальным педагогом в детском саду, три года на народно–певческом и музыкалка с отличием ей это позволяют.
С точки зрения среднего советского труженика, живет Люсечка хорошо, большая трехкомнатная квартира, машина, домик на шести сотках, где–то под Гжелью, только все не так просто, как кажется.
Первые пять лет они с мужем, свекровью и маленьким сыном ютились в однокомнатной квартирке, потом свекровь умерла, появились девчонки, стало еще труднее. Семья увеличилась, а доход уменьшился, у покойной свекрови была хорошая пенсия. Жили бедновато, тесновато и неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы не приятель Костика, тому надоело смотреть, как друг мается, пытаясь прокормить семью, он буквально за шкирку вытащил его из НИИ и устроил экспедитором в «Смоленский» гастроном.
По образованию Костик инженер–механик, но институт заканчивал пищевой и специальностью его были какие–то погрузочные агрегаты, это очень пригодилось на новом месте, кроме того начальник по товарному снабжению тоже оказался выпускником пищевого.
Жизнь потихоньку стала налаживаться. Костик был исполнительный, никогда не переходил рамки дозволенного, разного рода дефицит брал только для семьи, в редких случаях для родных и близких знакомых, а уж приторговывать им, ему и в голову не приходило, по натуре он молчун, говорил мало, делал много и, по возможности, старался никуда не влезать. Начальство это оценило, повысили в должности, дали хорошую квартиру, выделили участок, никогда не обходили с премиальными, но вот работы навалили сверх всякой меры, Костик, можно сказать, дневал и ночевал на службе.
–Как вы живете–то? Я дядю Петю уже года три не видела,–Люсечка интенсивно вращает мясорубку, не глядя, заталкивая в нее куски мяса,–А Борис как?
–Замечательно! Скоро второго родит, а может двух, у Верки пузо аж на нос лезет.
–Что ты говоришь?! А старшему сколько?
–Три с половиной, чем только не переболел?! Врачи говорят, ребенок не садовский.
–Они всем так говорят, выправится. У меня Ванька ужас, какой дохлый был, а сейчас футболист, тренер его хвалит, а как вы там размещаетесь в двух комнатах–то?
–Родители в маленькой, Борька с семьей в большой, а я на кухне. Правда, мне, чтобы постель постелить, надо кушетку раздвинуть, а кухня у нас хоть и приличная, но на царские палаты не тянет, поэтому часть кушетки раздвигается под стол. Представь, пришла ты ночью водички попить, а там человек лежит, причем, до пояса он есть, а дальше нет. А зимой вообще лепота! В морозы батареи жарят на полную, а от окна несет нещадно, тогда приходится переворачиваться: головой под стол, а ноги к окну. Сейчас уже привыкла, а поначалу, по делу приспичит, дернешься–бабах! И башкой об стол.
Люсечка испуганно ахает, оставляет мясорубку в покое и подсаживается к столу,–Кошмар какой!–нижняя губа у неё дрожит, а веки краснеют,–Я помню, как мы в «хрущёбе» жили… Ад!
–Не–е–е… У нас пока только чистилище, ад будет, когда Веруня второго родит, их комната рядом с кухней, а стенка тонкая, значит, ночные песнопения мне обеспечены, опять же пеленки, подгузники, где их сушить–то? Кроме кухни негде. В ванной дитё купать, самим мыться, балкон метр на метр, да и то только в теплое время.
–А, если тебе у родителей как–нибудь поместиться?–моя троюродная уже почти плачет, глазки слезами заполнились, еще чуть–чуть и…
Она не притворяется, ей действительно меня жалко, и не только меня, она постоянно всем сочувствует, большой ребенок, и это несмотря на троих детей, именно поэтому все и зовут её не Людмилой, не Людой, а Люсечкой, а на работе Люсечка Сергевна, и воспитанники тоже.
–Я и помещалась, пока Верка вторым не залетела. Мелкий же болеет постоянно, коклюш недавно перенес, вот его и переселили к старикам, чтобы он поменьше на мать чихал, ну, а мне…
–Господи! А перспективы какие–то есть?
–В нашей стране перспективы есть всегда, светлые и лучезарные. Борька на работе стоит в очереди на жильё, когда Веркиной беременности пять месяцев минуло, он справку предоставил, так, мол, и так, жду пополнения, его малость передвинули ближе к началу, но это всё равно года два минимум, и то только потому, что очередь ведомственная, а не городская, там бы…
–Да, там вообще кошмар. Мы бы до сих пор стояли, если бы Костик из НИИ не ушел.
–Люсечка, а я к тебе по делу, тетя Лида сейчас с тобой живет?
–Ага. Мы как квартиру получили, сразу её забрали. Мне большое облегчение, она и по дому помогает, и с детьми, пуговицы два раза в неделю на танцы ходят, еще и рисование у них, без мамы я бы не справилась.
–У неё вроде комната есть.
–Да, от нас недалеко. Одна автобусная остановка.
–А кто там сейчас живет?
–Никого. Ваньке восемнадцать исполнится, можно будет родственный обмен сделать. Сейчас никак, мне для этого разводиться надо. Я её сдавать пыталась, для жизни там все есть. Мы когда маму из барака переселяли, её пожитки туда засунули, вот только желающих мало. Соседи! Сомнительным типам я принципиально не сдаю, мало ли что, а нормальный человек долго там не живет, месяц, два и на выход. Последний жилец четыре продержался, рекорд.
–Люсечка, а можно мне там пожить? Я тебе заплачу, сколько скажешь.
–Да ради бога! Мне и денег сверх квартплаты не надо, только там обстановочка ой–ёй! Тетка Дуня барахольщица страшная, всё к себе тащит и грязнуля еще та, но бабулька она хорошая, не злая, всю жизнь шофером проработала, а теперь на той же автобазе сторожем. Гришка, её племянник, набегами в квартире бывает, у него женщина есть неподалеку. Мужик, что называется, руки золотые, и слесарь, и электрик, ну и, как водится, на грудь принимает регулярно, а после этого…, сливай воду, суши весла. Самая противная тетка Лена, она зараза жадная, хитрая, на весь дом участковому стучит. Хорошо тот человек разумный, не всё во внимание принимает, хотя его тоже можно понять, там контингент оторви и выбрось, из бараков переселяли.
–Ну, мне особо выбирать не приходиться, а так хоть комната своя будет. С замком?
–Разумеется, как положено.
–Значит, можно?
–Конечно,–она роется в одном из ящиков и протягивает мне целлофановый пакет,–Держи,–в пакете лежат ключи, и книжка со счетами за коммуналку на имя её матери,–С участковым я договорюсь, объясню твою ситуацию, он поймет. Бабкам ничего объяснять не буду, просто скажу, что ты моя сестра и будешь там жить, только, вот что…, жировки–то у нас разные, а отдельных счетчиков на свет и газ нет. Проблему, конечно, решить можно, но бабкам денег на установку жалко, а мне оно на кой? Поэтому платежные книжки общие, ты представляешь, что там творится в конце месяца? Так что придется тебе свет и газ оплачивать за всю квартиру, иначе они не согласятся, у меня и прежние жильцы так делали.
–Не вопрос. Спасибо тебе!
–Было бы за что. Ты ешь, ешь… Кофе ещё налить?
***
–Ночь, как слеза, вытекла из огромного глаза и на крыши сползла по ресницам…,–окно настежь, позади его голос и темное пространство,–Встала печаль, как Лазарь, и побежала по улицам рыдать и виниться…,–передо мной триумфальная арка, сияющая и величественная,–Кидалась на шеи–и все шарахались, и кричали: безумная!…,–глупые лупоглазые фонари пялятся на красавицу и завидуют,–И в барабанные перепонки воплями страха били, как в звенящие бубны…,–а красавица не обращает на них внимания, она–сама вечность, и чванливый Кутузовский предано лижет её пятки.
Голос смолк, я чувствую, как губы, еще минуту назад выдыхавшие волшебные звуки, ласково движутся по моей шее…
–Кто это?
–Анатолий Мариенгоф, ближайший друг Есенина.
–Никогда не слышала.
–Не удивительно, у нас совсем недавно и Есенина не очень–то жаловали.
–А ты откуда его знаешь?
–У матушки книжка есть, издана в конце двадцатых. Мой дед, её отец, когда–то в театре у Таирова работал. Вообще он филолог, или, как тогда говорили, славист, до революции в Московском университете преподавал, но потом…,–он замолчал, покачал головой и…,–А потом стал заведовать репертуарной частью, сначала у Таирова, потом в театре Революции–это нынешняя «Маяковка».
…Губы опять путешествуют по моей шее, я запрокидываю голову, кладу ему на плечо и растворяюсь… Тело размякает, ноги дрожат и подкашиваются…, вдруг в голове: «Господи, мы же голые, а с улицы свет, как из прожектора….», толкаю Ленского и отскакиваю от окна.
–Ты чего?–глазами хлопает и губенки надул, как обиженный ребенок.
–С улицы все видно, а мы в чем мать родила, не знаю как ты, а я не готова к такому стриптизу.
Вовка расхохотался,–Вот в чем дело! Сейчас поправим,–я даже охнуть не успела, а он уже содрал штору, накинул её нам на плечи и запахнул, как широкий плащ,–Вуаля!!!
–Сумасшедший, «крестный» тебя убьет!
–Обойдется… Не первый раз…
Последние слова мне не понравились, но неприятное чувство прошло также быстро, как и появилось,–Почитай ещё.
–Не было Вас–и не было дня, не было сумерек, не горбился вечер и не качалась ночь сквозь окно. На улицы, разговаривающие шумом рек, выплыл глазами опавшими, как свечи…,–и опять его губы, моя шея, мои губы, его глаза, а сердце, как на качелях, то вверх, то вниз: ух, ух, ух,…,–Я сейчас,–он выскальзывает из «плаща» и исчезает в глубине темноты, а там: дзинь…, дзинь…, звяк…, звяк…,–Держи,–у меня в руках оказывается приземистый пузатый бокал с узким горлом,–Ты его плотнее обхвати, коньяк тепло любит.
Я послушно обхватываю «пузана» пятью пальцами и делаю несколько вращательных движений, потом подношу к носу и с наслаждением вдыхаю терпкий горьковатый аромат,–Ваше слово, сэр.
–За чудесную ночь, за звездное небо, за счастливый случай…
–За Мариенгофа.
–За него тоже,–коньяк проваливается вниз, а следом за ним плавно змеится штора, но сейчас мне глубоко наплевать видят нас или нет. Блямс!… Это «пузан». Его или мой?… Др–др–др…, стук! А это что?… Плевать! Я в раю… Ай!… Он поднял меня на руки и кружит по комнате…,–Приду, Протяну ладони. Скажу: люби, возьми, твой, единый. У тебя глаза, как на иконе у Магдалины…
Один круг, второй…, наши души уютно уткнулись друг в друга, а хищные тела совершают разбойничий набег…
***
Я пытаюсь пошевелиться, левая рука чем–то зажата, дернула сильнее и,–«Ой, господи… Уф!…»,–«что–то» отъехало в сторону и засопело.
Рука категорически отказывалась слушаться, пришлось принудительно перенести её на живот. Открыла глаза, повернула голову влево, край кровати, еще сантиметр и мимо, повернула вправо, обнаружила Лёлькину спину (она даже джинсовое платье не сняла), а за ней сидящую на постели русалку.
Русалка улыбнулась и ласково произнесла,–Лабас.
–Чего?!
–Привет, говорю. Это по–литовски,–русалка превратилась Нельку,–Ну, раз проснулась, пошли на кухню, а Лёлька пусть спит, ей сегодня работать, и завтра тоже.
–Сегодня же суббота?
–Вот именно, в ресторане в выходные самое то. Она бы и вчера работала, да помещение «серьёзные гости» заняли, сказали, лишние люди им не нужны,–мое тело попыталось принять вертикальное положение. С первого раза не получилось,–Осторожнее, не наступи,–прошепелявила Нелька, во рту у неё прыгали шпильки, а руки закручивали волосы в тугой пучок.
Я ошалело смотрю вниз, на ковре рядом с кроватью спит кто–то из мужиков, подушкой ему служит огромный плюшевый слон, кое–как перемещаюсь на пол и принимаюсь шарить глазами по комнате…
–Стул видишь?–хозяйка была уже во всеоружии, даже губы накрасила,–Там под пиджаком твои брюки, забирай, на кухне оденешься.
Я послушно собираю амуницию и иду вслед за Нелькой,–А на полу кто?
–Юрка Корецкий, Лелькин мужик. Вы уже десятый сон видели, когда он явился, еле уняла.
На кухне смрадно и тоскливо, но пока я натягивала одежду, Нелька чудесным образом разрулила ситуацию, устроила сквозняк, и все запахи моментально вытянуло, разгребла стол, вынесла мусор и чем–то побрызгала в воздух, почувствовался легкий запах лаванды.
–Ловко ты.
–Это профессиональное. Я в гостинице работаю. Клиент, разный попадается, а номера убирать быстро надо. Кофе пьем?
–Ага, только умоюсь,–поворачиваюсь к выходу и понимаю, что не помню, где находится ванна,–Нель, а где…
–До конца коридора направо, первая дверь. Полотенце бери любое, вчера все обновила, и не пугайся, там Викторас, во время вечеринок–это его любимое место.
Свет включать не решилась, оставила дверь открытой. Мыться в темноте было неудобно, как ни старалась, брызги все равно в ванну летели, Разин даже очнулся пару раз. Чистое полотенце нашла сразу, повезло, учитывая, что на полу валялись три штуки, явно не первой свежести.
После водных процедур почувствовала себя почти счастливой, правда, голова слегка кружилась и подташнивало.
На кухне от былого бардака и следа не осталось, а хозяйка увлеченно колдовала над плитой,–Садись, сейчас кофе подам, настоящий, не бурда растворимая.
–А мне и растворимый нравится.
–Просто ты настоящий никогда не пила. В Москве не во всяком ресторане его готовить умеют, а народу не до кофе, хлопотно, а, главное, дорого. Да и привычки нет, другое дело у нас в Прибалтике,–она аккуратно разлила ароматный напиток и, заметив, что я нацелилась на сёмгу, стукнула по руке,–Не надо! Тошнит?
–Ага.
–Конечно, ты вчера нервная была, всё подряд глотала. Сыр бери, а про рыбу забудь. Тебе сейчас кофе, чай крепкий, можно молока…, хотя, наверное, лучше…,–на столе таинственным образом появилась бутылка коньяка,–пятьдесят грамм!
–Не–не–не… Ни за что!
–Это лекарство. Пей! А потом кофе.
Я повиновалась. Сначала организм пытался выкинуть «лекарство» обратно, но потом голова прояснилась, и тошнить перестало,–И, правда, лучше,–с удовольствием зажевала «лекарство» сыром и сделала глоток из чашки,–Напиток божественный! А где остальные?…
–Самойлов с девушками и Захаров.... науья йстра…., как это по–русски…, а …новая дама, в той комнате, где гуляли. Ленский в кладовой, кресло туда впихнул и спит. Ланин, Борисов и еще кто–то в кабинете. Гордеев «свою» провожать поехал…
–Ну, это я помню, тогда еще и одиннадцати не было.
–Вот–вот… Николаев домой ушел, он тут на Комсомольском живет, Пашутин с Леной в маленькой.
–А Антонина?
–У Булкина сегодня какое–то семейное торжество, только вспомнил он об этом в третьем часу ночи, ну, Лелька позвонила Вадику, тот приехал и забрал их.
–Кто такой Вадик?
–Таксист знакомый, он Лельку давно «катает», правда, у него одно условие, если сильно за двенадцать, больше, чем в один адрес не повезет.
–Тоня далеко живет?
–Ты, думаешь к ней? Не поедет Булкин в Свиблово. Да и зачем? У него в Матвеевском двухкомнатный кооператив, родители купили. Они могут,– вздохнула Нелька,–Отец академик, директор секретного НИИ, матушка профессор консерватории, дядя народный артист, и далее, далее…
Голова моя прояснилась,–Ой, спасибо. Можно ещё?–Нелька довольно улыбнулась и опрокинула турку в мою чашку,–А квартирка–то вместительная, твоя?
–Мужа.
–Ты замужем?!
–Вдова, пятый год.
–Ой, прости…, я не знала, сочувствую…
–Нечему тут сочувствовать,–отрезала Нелька, а лицо у неё вдруг стало злое и брезгливое.
Я притихла, потом робко попробовала сменить тему,–А ты в Москву давно приехала?
–Восемь лет назад.
–А откуда?
–Из Паланги… А родилась я на хуторе, ближайший поселок Моседис в пятнадцати километрах… Ладно, потом… Вижу, ты хорошо себя чувствуешь, значит, будем завтракать…
Я пила кофе и слушала, как журчит Нелькин голос. Акцента, как такового у нее не было, но слова она произносила с особой тягучей интонацией, а фразы строила «слишком» правильно, и иногда перед тем, как что–то произнести, задумывалась, то ли вспоминала, то ли переводила с литовского.
***
Коварный луч бесцеремонно щекотал нос и буравил глаза, просыпаться не хотелось, я натянула одеяло по самую макушку, не помогло, солнце чувствовалось даже через ткань, к тому же стало жарко. Чиву–чиву… чьи вы, чьи вы…, вопросительно застрекотала птаха… Не судьба!
Ленского рядом не было, а на подоконнике сидел нахальный воробей и косо на меня поглядывал.
–Кыш!! Зараза!–даже клювом не повел, наоборот чирикнул, подпрыгнул и повернулся хвостом. Подобное нахальство я стерпеть не могла,–Ах, ты, дрянь такая! Пошел вон отсюда,–прорычала я и ринулась к окну. Воробей сделал изящный пируэт воздухе и приземлился на ближайшую ветку, а я со злостью захлопнула оконные створки.