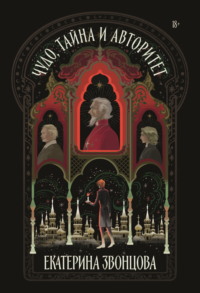Полная версия
Желтые цветы для Желтого Императора
Юши стал сдавать и странно вести себя четыре зимы назад. Началось просто: братья, как всегда, приехали к нам провожать год – и я обратила внимание, как плохо Юши выглядит. Он был слишком желтым, даже для нас; волосы потускнели, поредели. На одной из охот он упал без чувств, и во дворец Никисиру вез его на своей лошади, то и дело кидая на меня тяжелые взгляды. Предыдущие наместники тоже падали в обмороки – но обычно в последние год-два своего двадцатилетнего срока, не на середине! Врачи не находили у них недугов, лишь усталость. За это я и уцепилась, сказала брату дрожащим голосом: «Он утомился, в этом году такой хороший урожай…» Никисиру не ответил. Мы привезли Юши, препоручили врачам, сидели с ним сами – как в детстве: тогда мы всегда приходили к постелям друг друга в часы болезни. Вскоре он очнулся. Он уже выглядел лучше, посмеивался и уверял, что мы должны просто еще больше его любить и ценить. «Куда больше!» – проворчал Никисиру, который и руки его все это время не выпускал. Я только покачала головой, поймав их взгляды. Я хотела сказать им: «Вы – мое все», но не смела, боясь, что засмеют. Или что Юши… попросится в отставку?
За праздники он падал в обморок еще не раз, и выхаживать его вызывался сам Акио. Ему тоже было стыдно, он хотел разделить со мной вину и выказать благодарность, но сейчас я понимаю: не стоило. Не стоило ему сближаться с Юши. Не стоило отвечать на праздные, невинные вопросы: как живется Императору, что Император делает. Акио рассказывал бесхитростно: о городах, бодро вырастающих в Центре, о кораблях, спускаемых на воду, о новых больницах и гостях. О прибыли за вишню, об урожаях и улове Никисиру. Ты сам знаешь, таков был Акио: легкий на подъем, готовый на любую работу, не замкнувшийся, в отличие от тебя, даже когда ваша семья… прости. Я лишь к тому, что, не будь он моим супругом, тоже мог бы стать для Правого берега неплохим наместником, о чем Юшидзу ему и сказал, уезжая в тот год, и добавил: «Да. Вот бы поменяться местами… ненадолго». «Вряд ли Сати бы одобрила, – ответил мой добрый муж. – Но, если будешь болеть, пожалуйста, зови, я приеду сам. Помни, мы – семья». Юшидзу улыбнулся и пообещал: «Что ты, нет. Больше я не заболею, обещаю, я вас так не подведу».
Душа моя была не на месте. Что я сделала? Приказала кое-кому из старых слуг, уехавших с Юши, следить за ним и докладывать о его здоровье. Я знала: он будет молчать. Слишком горд, упрям, любит потрясать великолепием, ненавидит слабость. Так и вышло. Он молчал. Молчал, хотя обмороки начались, едва стали завязываться вишневые плоды; молчал, а на меня сыпались депеши: «Пролежал в горячке три дня», «Не ест четыре», «Пошла кровь из носа…». А ягод было много. Еще больше, чем в прошлый год, они наливались спелостью. Я металась по дворцу, пугая Рури плачем, я не знала, как смотреть в глаза Никисиру, если, например, Юши не станет… но первой сдалась не я, сдался Акио – и поехал к нему, не объявляя о визите.
С Юши он пробыл несколько дней, не застал ни одного обморока, да и выглядел брат хорошо. Был свеж, весел, целыми днями работал, а потом гулял. Акио не заметил в Юши ничего странного… поначалу, пока однажды тот не затащил его купаться в озеро близ старейшего на берегу сада, недалеко от дворца. Тогда-то Акио и заметил ее – свежую, большую рану у Юши на груди. Встревоженный, спросил: «Кто напал на тебя?» Юши отнекивался, но сам знаешь: в вопросах здоровья Акио было не переупрямить. Брат сдался: «Я сам. В грозовую ночь перед самым твоим приездом, здесь же, когда тоска и усталость затмили разум. Вот под тем деревом. – Он указал на самую высокую вишню, что нависала над водой, почти купая в ней ветви. – Но я остановил себя вовремя, как видишь. Прошу, не сообщай сестре».
Акио ничуть не утешился, наоборот. Он был потрясен тем, что его славный друг, да и пациент, в котором он видел много света, едва не свел счеты с жизнью. «Как ты мог?» – спросил он. «Даже императоры устают, разве нет? – отозвался Юши, взял его ладонь и приложил к своей груди, точно к ране. – Но все уже в порядке. Слышишь? Даже мое сердце бьется ровно». Акио показалось, что руку его обожгло – так он испугался, так спешно потребовал: «Обещай больше так не делать! Лучше уж я правда займу твое место, славная наследница у нас уже есть!» Юши лишь рассмеялся и больше о плохом не говорил, ну а вскоре Акио вернулся домой.
Как ты помнишь, на следующий день его не стало.
Милый волчонок, мне так больно… Накануне я совсем разгрустилась, и назавтра Акио пообещал мне сюрприз. Ушел поутру из дворца – а через несколько часов его труп нашли в заводи за лотосовым полем. Они утянули его! Утянули с земли и утопили, как чуть не убили меня. Чудовищные следы на горле, руках… ты видел сам, не стану бередить рану. Я написала это, лишь зная: теперь ты сложишь два и два. Предположишь то же, что я: не поделился ли Юши с Акио нашим приключением, не сказал ли, что я когда-то любила лотосы? У Акио не было ни ножа, ни лопатки. Но не решил ли он сорвать мне цветов? Он, конечно, должен был понимать, что после пережитого страха такой сюрприз меня не порадует, но зачем-то он ведь туда отправился? Его могло вести и любопытство, я всегда чувствовала это – его желание правда стать частью нас. Увы, таков удел всех пришлых – жен и мужей, которых выбирают члены правящих семей. Божественное Правило Равнокровия позволяет императору жениться и на нищенке, но нищенка эта, став императрицей, даже в шелках и золоте помнит, кем была. И ей придется много трудиться, чтобы двор и окружение супруга если не полюбили, то хоть приняли ее по-настоящему. Акио… думаю, он был встревожен. И, как и ты в своей работе, решил пойти по следам. Собрать несколько наших воспоминаний и нащупать корни беды. Или… кто-то навлек ее на нас каким-то немыслимым образом? Не знаю.
И вот я осталась вдовой, а братья, поддерживая меня, стали чаще приезжать ко двору. Юши больше не падал в обмороки, Никисиру брал с собой детей: и принца Асагао, и приемыша-косё, Мэзеки, ну а принцесса Джуни вообще большую часть времени жила со мной и Рури, о славная девочка и наша опора. Скорбь точила меня. Рури огорчала скромными успехами и ранней, неразборчивой, так похожей на мою влюбчивостью – но с дядюшками преображалась, старалась казаться лучше, чем есть, ее раненое сердце искало замену отцу. В общем, каждого приезда Юшидзу и Никисиру я ждала как праздника. И не сразу заметила новые тревожные тучи над нашим маленьким миром.
Сначала были тренировки. Юши решил помочь Рури овладеть даром. Ты помнишь ее вечные проблемы с концентрацией, она не могла даже удержать поднятый взглядом предмет дольше пары мгновений, не то что переместить. Зато когда злилась, у нее всё и все летали! Юши придумал забаву – состязание. Такое: он подбрасывал повыше, например, два яблока, и, пока Рури должна была волшебством – не злясь при этом! – взорвать первое, он прыгал и мечом рассекал свое. Либо другое: он удерживал пиалу с молоком на кончике пальца, а она – взглядом. Они считали очки, и проигравший выполнял желание победителя. Нетрудно угадать: поначалу Рури проигрывала все время. Юши, конечно, был милостив и не просил ничего сложнее, чем «Отдай свое пирожное», «Почитай мне стихи», «Обмахни меня веером», но мою девочку и это удручало. Я уже хотела все пресечь… но тут она начала побеждать. Я не верила. Юши добился такого за полгода! Вот только кое-что в тренировках смущало меня сильнее, чем проигрыши дочери. Юши не всегда ограничивался яблоками. Порой в воздух он подкидывал змей, крыс, птичьи яйца. Что-то живое. Я прекрасно понимала: Рури, как и все Ямадзаки, должна уметь сражаться и при этом остаться безгрешной, не убить ни одного человека. Но как же мне не хотелось, чтобы она попробовала кровь в столь юном возрасте! Об этом я сказала и Юши, и, казалось, он понял меня. Увы, к тому времени Рури уже разорвала пару крыс и расплющила пару ядовитых змей.
Потом были цветы. О, цветы… те самые проклятые лотосы, они снились мне, а потом я иногда находила их на подушках, просыпаясь. Я бранила слуг, допытывала часовых, но никто ничего не мог объяснить. Особенно страшно становилось, когда я находила еще мокрые кусочки тины на полу. Не будь наши боги строги к отлетевшим душам, не отправляй их сразу на перерождение или в Рой, я ведь правда решила бы, что это Акио, мертвый Акио передает мне привет. Сейчас, в свете всего, я предпочла бы, чтобы так и было. Увы. Едва ли.
Следующими были поцелуи. О, волчонок, тебе не понять, каково растить дочерей! Говорят, самый трудный возраст с шестнадцати, и так, наверное, у большинства, но наша семья какая-то неправильная. Я была дурной девчонкой в тринадцать, и Рури такая же. Ее дар с обретением женской сути взбесился, сама она снова, как до сближения с моими братьями, стала капризной и беспокойной. Но особенно мальчики, мальчики… Ох… Глаз ее все время на кого-то падал. Ненадолго, и это тоже казалось мне неправильным. Вот она, присев на камешек, мило беседует с сыном садовника, вот пробралась в кухонный черный ход поболтать с поваром, несущим фрукты, вот кокетничает с кем-то из стражи, не разбирая возраста, – а мне остается держать маску спокойствия и радоваться, что эти люди хотя бы не отвечают ей взаимностью, скорее пугаются. Рури, Рури… я бы относилась к этому проще, не скажи она однажды совершенную мерзость. Я ругала ее за очередной флирт, упрашивала быть тише еще хотя бы года три, а там мы подыщем ей супруга! Так знаешь, что она заявила в ответ на шутливый вопрос, за кого бы она хотела замуж? «За дядю Юши!» Тут же, конечно, поправилась, вспыхнув как пион: «За кого-то похожего». Ох… Мы быстро закончили разговор, но теперь каждый раз, когда Рури общалась с Юши или с любым мальчиком, я начинала думать об этом. И обращалась с ней еще строже.
Может, для тебя все это звучит как глупости испуганной, усталой женщины. Ты поднимаешь бровь, думая: «Ну и что?» Может, ты и прав, а я глупа и труслива. Ведь мы все еще здесь: Рури приглядела очередного мальчишку, наконец кого-то достойного – Мэзеки. Я не удивлена, он так похорошел! У него стали такие же тонкие красивые черты, как у Юши, он грациозен, силен и обходителен. Братья и племянники со мной, мы хорошо проводим время, не ведем двусмысленных разговоров, а вот цветы… цветы снятся мне в кошмарах. Да и вишни тоже.
Юши… Юши все так же чарующе красив, мрачен и устал. В обмороки он не падает, но во взгляде его я иногда ловлю что-то пугающее, в словах – боль. А еще он не очень-то уважительно отзывается о богах, заявляя немыслимое: что пора бы им перестать обращаться с нами как с прирученными обезьянками (обезьянками, именно так!). Однажды, под действием вина, он высказался прямее: хорошо бы боги забрали все свои мерзкие разрушительные дары, от Правил до вишен. Хорошо бы они, эти чужаки, всегда жившие на Святой горе, никогда оттуда не спускались и не мешали нам идти своим путем.
О волчонок… ты сам, думаю, понимаешь, какие это все тонкие материи, легенда о нашем с богами сближении действительно далека от трогательных сказок о детях и родителях. Но сравнение с обезьянами… пусть обезьяны – наша родня, пусть наши предки, едва произошедшие от них, и вправду лишь привлекли случайно божественное внимание, забравшись на гору и украв пару ценностей, чтоб обогреть пещеры… Это ведь неблагодарно. Мы всем обязаны богам. Чем, например, был Ийтакос, пока у нас не появились вишни? Непримечательной громадиной на задворках мира, где только и умели ловить рыбу, ткать да сеять рис. Большая мировая кормушка да прялка – так нас звали за глаза и храбрые мореходы физальцы, и игаптяне с их золотыми гротами и плантациями лекарственных трав, и утонченные гирийцы с их чудесными мраморными карьерами, самоцветными островами, пастбищами, оливковыми рощами… и где они сейчас, все эти цивилизации-гордецы? Распались на обломки, которые забыли половину собственных секретов, растеряли сокровища и славу. Я говорю это и брату, но он лишь усмехается. Потерял все уважение к нашему наследию.
Я чувствую: Юши… Юши злится. Да, тут и моя вина: в последние две-три осени я не была с ним достаточно ласкова, я хвалила его за славные урожаи, но позволяла себе просить еще немного больше. Сам помнишь: деньги нужны были нам на новые больницы и школы, потому что население растет; на дороги, корабли и порты, на лекарства, одежду, древесину! Не говоря уже о нуждах кан и армии… Маджидайский мандарин, этот мерзавец, все чаще пишет с теми омерзительными предложениями, о которых я говорила: что не против был бы обладать мной, обладать нами, обладать Ийтакосом (разумеется, он зовет это «священный союз»). Не знай я, что он ленивый жирный трус, – заподозрила бы, что бедного моего мужа убил он в надежде все обстряпать. Ох, глаза бы мои его не видели! Впрочем, это все же ненужное отступление.
Юши надломлен, и душа его, кажется, блуждает во тьме. Я потеряна, не могу поговорить о своем страхе даже с Никисиру: зная их близость, я вовсе не уверена, что мой добрый средний брат не бросится все улаживать напрямую. Что почувствует бедный Юши, услышав: «Сестра теряет доверие к тебе и подозревает, а не хочешь ли ты занять ее место?» Что он почувствует, если я глубоко не права? Не знаю. Не хочу знать. Поэтому буду просто ждать и стараться провести время счастливо. Так, как мы проводили прежде.
Странное письмо, да, волчонок? В нем нет и не будет указаний, потому что… я не знаю, какие дать. Наверное, одно: если я вдруг погибну, и погибну в обстоятельствах столь же странных, сколь Акио, не оставляй это так. Ищи следы. И прежде, чем искать их, например, в Маджедайе, присмотрись к тем, кто остался цел и занял мое место. Я не могу сказать прямо: «Не доверяй Юшидзу». Возможно, он, наоборот, тот, кому стоит доверять. Так или иначе… оставайся зорким. Не обманывайся. Не покупайся на высокие посты, которые тебе предложат, и политические поручения, от которых потом не отмоешься. Тебя захотят сохранить, я уверена. И будут правы.
Ты далеко сейчас, ты весь в своем расследовании, и, может, к лучшему, что я не вовлекла тебя в круговорот страхов раньше… но может случиться так, что после моей смерти ты останешься единственной надеждой нашей семьи. Никисиру добр и стоек, но прост и недогадлив, не удивлюсь, если в темные времена он растеряется и станет пешкой в чьей-то игре. Юшидзу… руководить им может то, что я должна была прочесть много лет назад.
Какой же ценой я получила эти хорошие урожаи, волчонок… возможно, жизнью за них я должна была заплатить намного раньше. Но пока – да пребудет с нами Империя. А если погибнет она – пусть останется то, что можно защитить, исцелить и взрастить заново. Найди тех, кто сумеет сделать это, волчонок. Найди. Ведь это всегда было твоим настоящим призванием.
А предателей утяни в могилу за мной. Все ради Империи.
Я всегда верила в свет твоей опаленной души, помни об этом.
Сати.
4. Недобрая ночь у мертвого дерева
– Ладно, – вяло подытожил Мэзеки, – в конце концов, мы можем убить его на подходе к городу. Или уже в городе.
Скрипнув зубами, Харада переглянулся с Окидой. Та сидела сгорбленная, обняв колени и обернув вокруг них свалявшуюся косу. Во взгляде тускло золотились огни едва теплящегося костерка. Воплощение тоски и тревоги.
– Ты сам видел его в бою. – Харада встретился глазами с мальчишкой. Тот выглядел спокойно и даже запеченную желтозубку грыз так, будто правда мог наслаждаться поздним скудным ужином. – И благоразумно не сунулся! – Он потер ноющий живот. – Не будь у меня таких мышц и реакции, он отбил бы мне печень или вообще что-нибудь разорвал!
– Если ты его тоже знаешь, – Мэзеки едко выделил последнее слово, – зачем сунулся? Сам он с тобой драться не собирался. Бестолочь.
– Эй! – Харада швырнул в него увесистой щепкой. Мэзеки лениво проследил, как она стукнула его по колену. – За языком следи. Именно потому, что я его знаю, ты ребенок, а моя сестра, как ты мог заметить, не убивает, я и…
– Кстати, с этим нужно что-то делать, – оборвал Мэзеки. Харада зарычал и хотел бросить что-нибудь еще, но мальчишка вообще потерял к нему интерес, повернул голову к Окиде. – В моем плане у тебя важная роль. Вероятно, лучший шанс на убийство представится тебе.
– И я убью, – сухо откликнулась сестра. У Харады по спине неожиданно побежали мурашки, пришлось даже дернуть лопатками. Сумеречная улыбка раздвинула уголки губ Окиды. – Я, дружок, почти как девственница. Берегу себя. Для одного-единственного.
Харада нервно фыркнул. Больше чем от этого сального, даже по его меркам, сравнения в дрожь бросило только от ухмылки Мэзеки. Одобрительной. Понимающей. А вот щеки все же покраснели.
– Я рад, но вот про твою личную жизнь знать ничего не хочу, оставь мне детство.
– Ну ты, – проворчал Харада. – Не дури нас: если ты так людей в бою не щадишь, то и в другом смысле на них явно уже засматриваешься. А ну как и девчонка есть?
Мэзеки опять остался невозмутим: лишь скривился и в очередной раз вгрызся в свою желтозубку, после чего отхлебнул супа из поцарапанной деревянной плошки. Глаза насмешливо блеснули из-за упавших волос: «Хорошая попытка, но не со мной».
– Лови, я все равно не буду! – Харада вовремя выставил руки, в которые плюхнулся еще один теплый, подгорелый с одного бока маленький початок. – Я же вижу. Ты не нажрался.
Окида смотрела тепло, но все еще безжизненно.
– И я тебя люблю, – вздохнул Харада, с сомнением крутя желтозубку в пальцах. – Точно?
– Надо есть, – опять влез Мэзеки таким тоном, будто был старше их обоих вместе взятых и еще помножить на шесть. – Ты обессилеешь. Такая ты бесполезна, хотя бы пей суп.
Он кивнул на маленький чан, в котором печально плавало несколько поздних грибов, сжуренная долька лимона, ошметки сушеной морской капусты и шесть-восемь чахлых рыбок.
– Это невозможно жрать без тофу, – поморщился Харада, но Окида неожиданно послушалась мальчишку: взяла плошку, зачерпнула жидкого бульона.
– Тофу пожрешь, когда остановка будет нормальная, – пообещал Мэзеки. – Хотя, если тебе прямо не терпится, можешь еще порыскать по домам. А ну как отыщешь в погребах какие-то не совсем подпортившиеся запасы. Как сказал наш новый друг, эту деревню ведь…
– Пошел он, – прошипел Харада, снова раздражаясь, и все-таки вгрызся в щедро отданный початок. – Я ему вообще не верю, ни одному слову!
– Но факт остается фактом. – Мэзеки допил суп и поставил плошку. Взгляд его мрачно заскользил по обугленным руинам, окружавшим место ночевки с левого фланга. – К нам еще не прибежали. Деревня разорена давно, и, видимо, преследователи правда считают, что мы уже ушли дальше на юг. Окида проверяла – засад в округе нет.
– Пока нет, – вяло поправил Харада. – Что будет ночью…
– Я послежу, не буду спать, – пообещала сестра.
– Будешь, – хмуро возразил он, и на этот раз они с Мэзеки были единодушны. – Кто едва держится на ногах, кто не ест и заражает все живое своим унынием, кто…
– Я не унылая, заткнись, – шикнула Окида.
– Ладно, заткнитесь оба, – мирно посоветовал Мэзеки и повторил ее позу: плотно подтянул колени к груди. Но голова его нервно повернулась, и вот он уже наблюдал за высоким силуэтом, застывшим шагах в двадцати, в единственном пощаженном огнем уголке деревни.
У рыбного прудика, возле которого полицейский по имени Кацуо Акиро вот уже минут десять стирал свои черные перчатки. Ну конечно, стирал, дорогущие же! Плантаций морского шелка – его пряли из нитей особых, довольно редких шелковых рыб-бабочек – на Левом берегу было несколько, эта ткань особо ценилась. Вещи из нее шились только на продажу на Запад, либо для знатных особ, либо для вот таких вот псов власти.
Харада снова потер живот и выругался. В передряге, становящейся все мутнее, его злило одновременно много вещей, и вещи эти только плодились. Дурацкий побег с резней – раз. Странное поведение Окиды – еще более странное, чем все последние месяцы! – два. Погоня, от которой они отрывались трое суток и оторвались только сейчас, сделав серьезный крюк, – три; полная невозможность хоть немного обсудить тот самый план Мэзеки, шитый скверными нитками, – четыре. Ах да, оставшийся позади вооруженный придурок в одежде с черепашками – пять. И шесть – появление этого кан с душещипательной, но еще более мутной историей.
Кацуо Акиро вылез непонятно откуда, непонятно почему – когда они трое, буквально падая с ног и вываливая языки на плечи, добрались до этого поселения. Черное, все еще местами чадящее, оно выросло на пути жутким обугленным призраком, и решение оказалось единодушным: сносное убежище. Даже если не уцелело ни одного дома – а из двадцати пяти не уцелело правда ни одного. Даже если здесь еще есть люди – и люди нашлись, правда, мертвые: трое повешенных на толстых сучьях огромного дуба, прямо в центре площаденки. По какой-то насмешке дерево пощадил пожар. Не пожар… поджог. Об этом Харада мог и догадаться, но ему сказали. Сказал человек в дымчатой форме, в какой-то момент показавшийся из-за руин. «Все выжгли и забрали, хотя схроны можно обыскать. Зато сюда не вернутся, по крайней мере в ближайшее время. Я позаботился об этом дополнительно. Вы можете отдыхать».
Каждая фраза – сухая, как промороженная ветка, но твердая, как стальной прут, – была выверена: не содержала ничего лишнего, зато предлагала все, что Харада, Окида и Мэзеки в тот миг мечтали услышать. Они обменялись взглядами, не зная, что делать… и Харада решил за всех. Рыкнул, ринулся вперед, думая просто снести холеному черноволосому типу, поджарому, но худому, башку – а в следующий миг отлетел. Тип даже катану не достал – прыгнул по безумной спирали, извернулся и заехал Хараде сапогом. Не так сильно и стремительно, как мог бы, – Харада, уже падая, это понял. Зря: Харада вскочил, снова ринулся – и в этот раз получил кулаком в плечо. Хотя и по уху противнику успел заехать. Правда, тот едва покачнулся. «Успокоился? – холодно спросил он. – Судя по виду, ты меня помнишь. Все такой же, господин зверюга».
Запомнил давние идиотские шутки. Ну надо же.
Харада готов был драться дальше и вдобавок недоумевал: почему Окида и Мэзеки…
«Эй, стой! – наконец подал голос последний, и, всмотревшись в его бледное лицо, Харада нашел не страх и даже не удивление. Скорее досаду. – Кацуо? Если думаешь, что после всего я или кто-либо еще из нас станет с тобой разговаривать… ты ошибаешься. Предатель. Приспособленец. Перебежчик!»
Но еще спустя пару минут разговаривать Мэзеки согласился: когда кан спокойно, с поклоном приблизился и показал довольно интересное письмо от самой императрицы – переданное прямо во время одной из последних битв кем-то из ее умирающих баку-тай. А затем заявил, что присоединится к маленькому отряду заговорщиков, хотят они того или нет. Что-то письмо госпожи Сати, конечно, проясняло, вот только…
Вот только все равно. Все равно: как Харада – проклятье! – мог доверять ему? Тому, кто еще летом готов был жизнь положить, но не пустить «мятежников» ни к городу, ни к Желтой Твари. Кто неизбежно оказывался со своими мибу там, где Харада планировал прорывы, потому что, видно, сам прекрасно знал уязвимые звенья в войсках и не упускал ни одного их перемещения. В общем, выглядело все сомнительно. Напоминало продуманную облаву. И, хотя главенство Мэзеки приходилось признавать, дикое решение – взять кан с собой – Харада переваривать не собирался. Окида, судя по мрачности, тоже колебалась: чувствовала силу и угрозу.
– Ладно, повтори еще раз, – прокашлявшись, велел Харада. – Пока этот не пришел. Что вообще ты о нем знаешь и почему считаешь, что он на твоей… – Мэзеки, поморщившись, открыл рот, и Харада отмахнулся: эта дотошность уже утомляла. – Хорошо, почему ты считаешь, что мы можем пока смириться с его желанием к нам присоединиться.
Мэзеки налил себе еще супа, сел поудобнее и только после этого с расстановкой заговорил:
– Кацуо Акиро. Брат покойного императора Акио Акиро. Сирота, их родители-врачи погибли лет пятнадцать назад. Акио принял их дела, Кацуо начал заниматься боевыми искусствами, ну а когда госпожу Сати в одном из путешествий укусила змея и ее завезли в эту маленькую семейную больницу, потому что ближняя по пути…
– Да-да, – усмехнулся Харада. – Искра, буря, простой врач стал императором, а его маленький братец уж наверняка переехал с ним во дворец и получил все лучшее. Тут сказочка ясна. Но я не слышал, чтобы брат императора заявлял о себе, занимал высокие чины и…
– Чины, – рассмеялся Мэзеки и снова покосился на пруд. Скорее всего, он, как и Харада, догадывался: перчатки давно постираны. Кан просто ждет. Либо проявляет вежливость, либо издевается, ища самый неудачный момент, чтобы появиться. – Нет. Кацуо никогда не имел много общего с правящей семьей. Во дворце жить не пожелал, переехал в юцудо[35], где готовили кан. Ну а первый серьезный чин он получил только от Юшидзу. Возглавил отряд, где служил. Скорее всего, это была, как и написала Ее Сияющее и Цветущее Величество, подачка. Кость в зубы. Кацуо Акиро – хороший кан, отличался в последние годы. Думаю, занять должность сэнсея он счел честью, и тут-то гордость ему не мешала. И он понимал: влияние нужно наращивать.