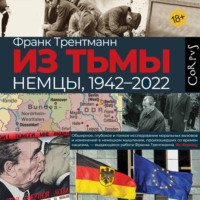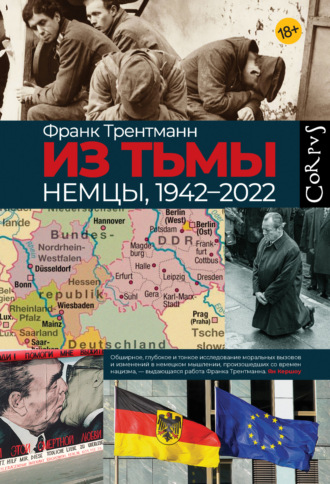
Полная версия
Из тьмы. Немцы, 1942–2022
На протяжении десятилетий раздел Германии выглядел как приговор истории. Неожиданное падение Берлинской стены в 1989 году открыло новую главу в поисках страной своего “я”. Воссоединение изменило как биографии, так и границы. Мир восточных немцев перевернулся. То, что было правильным или неправильным, хорошим или плохим, справедливым или несправедливым, внезапно перестало быть таковым. Миллионы граждан увидели страну, в которой они выросли, работали и воспитывали свои семьи, осужденной как незаконную, бесчеловечную диктатуру. Осенью 1989 года восточные немцы изначально бросили вызов режиму, скандируя: “Мы – народ”. Вскоре лозунг сменился другим: “Мы – один народ”. Но насколько близка к единству новая Германия три десятилетия спустя?
Для миллионов турецких, греческих и других мигрантов, сделавших своим домом Кёльн или Западный Берлин, как и для вьетнамских рабочих в Ростоке или Восточном Берлине, хор “Мы – один народ” приобретал более зловещее звучание. Возможность получить гражданство открылась для них в 2000 году, но приобщение к национальной идентичности было открыто в куда меньшей степени, и отчасти потому, что коллективная память о преступлениях нацизма значила, что именно этнические немцы помнят грехи своих отцов. Культурная открытость и признание людей “миграционного происхождения”, как их официально стали называть, должны были бороться с насилием, расизмом и антисемитизмом, которые никогда не исчезали ни в одной, ни в другой частях страны.
Воссоединение дезориентировало также и международное сообщество. В Европе нотации Германии о хорошем ведении домашнего хозяйства, обращенные к якобы ленивым и расточительным народам Средиземноморья во время долгового кризиса (2010–2015), почти раскололи Европейский союз, в развитие которого Западная Германия так усердно вкладывалась на протяжении предыдущей половины столетия. Окончание холодной войны расширило пропасть между экономическими амбициями Германии и ее военно-стратегической сдержанностью. В то время как немецкие компании продвигались в Восточную Европу и Китай, правительства Германии оставались в стороне от международных дел. Время от времени какой-нибудь политик говорил, что стране необходимо бороться за демократию, но армия сократилась, а зарубежное участие было редким и ограниченным. Немцы гордились тем, что извлекли урок из истории, но в чем заключался этот урок, было понятно все меньше. Означали ли слова “Никогда больше” Гитлеру и Аушвицу автоматическое вето на отправку немецких солдат в бой или, наоборот, решение отправить их туда, чтобы предотвратить повторение агрессии и геноцида? Как показала Боснийская война 1992–1995 годов, во мнениях по этому вопросу немцы расходились все сильнее.
Но не только великие темы войны и мира и нацистского прошлого в Германии обсуждаются с моральной точки зрения. Заключительная часть этой книги исследует три важнейших области, где моральные идеалы реализуются в повседневной жизни с разными результатами: деньги, соцобеспечение и окружающая среда. Каждый из них несет в себе национальные идеалы и стереотипы немецких добродетелей, которые необходимо проверить и оценить.
Бережливость часто изображается как определяющая черта немецкого характера, но после того как сбережения были уничтожены сначала в результате гиперинфляции 1923 года, а затем в результате конвертации валюты в 1948 году, она вряд ли возродилась естественным образом и требовала постоянных проповедей и стимулов со стороны правительства, банков и школ, чтобы выглядеть привлекательной. Что люди на самом деле делали со своими деньгами и вели ли себя действительно более ответственно, чем соседи, – это вопросы, требующие исследования. Рост неравенства с 1980-х годов не был чем-то особенным для Германии – что делало его настолько тревожным, так это то, что он противоречил глубоко укоренившимся представлениям о заслугах и справедливости.Wirtschaftswunder (экономическое чудо) послевоенных десятилетий убедило людей рассматривать свой успех как доказательство национального идеала Leistung (производительности), где упорный труд окупается. Что случилось с этими идеалами, когда бедным людям, у которых была работа, пришлось обратиться к пособиям, в то время как богатые наследники становились только богаче?
То, что люди должны друг другу, лежит в основе морального самопонимания общества и проявляется в том, кто о ком заботится. В Германии благосостояние приняло особую форму – субсидиарности, при которой обязанность заботиться сперва переходит от семьи к местному сообществу и церкви, прежде чем стать задачей государства. Германия являетсяSozialstaat (социальным государством), конституция которого требует, чтобы государство заботилось о своих гражданах, но оно в значительной степени опирается на семью, что имеет глубокие последствия для гендерного неравенства, поскольку большая часть заботы и ухода все еще ложится на плечи женщин.
Немцы, наконец, считают себя преданными природе и с помощьюEnergiewende (энергетического перехода) попытались встать в авангарде возобновляемой энергетики. При этом они любят свои машины, комфорт и колбасу, жгут уголь и выделяют больше углекислого газа, чем среднестатистический европеец. Сегодня именно это противоречие, а не немецкие солдаты, представляет наибольшую опасность для мира.
То, что мы помещаем мораль в основу преобразований Германии за последние восемьдесят лет, поднимает вопросы определений, метода и источников. Мораль традиционно является прерогативой философии и теологии. Ее основная дилемма преследует нас еще с древних времен: откуда нам знать, что хорошо и правильно? Философы-моралисты пытаются понять, почему люди проецируют на мир идеи добра и зла и как им следует в нем жить друг с другом. Согласно одной точке зрения, мораль прочно заложена в человеческой природе: мы по своей сути хотим творить добро. Люди действуют исходя из “моральных чувств”, как выражались мыслители эпохи Просвещения Дэвид Юм и Адам Смит. Недавно сканирование мозга выявило, что в нем происходят нейронные разряды, когда люди жертвуют на благотворительность, а антропологи проследили альтруизм и сочувствие до ранней стадии эволюции, когда сотрудничество повышало шансы на выживание. Согласно другой точки зрения, мораль основана на разуме и требует беспристрастного анализа. Философы-моралисты принципиально расходятся во мнениях относительно того, что делает действие правильным или неправильным. Одна группа, следуя Аристотелю, видит цель жизни в человеческом процветании и сосредотачивается на добродетели. Для другой группы (так называемых консеквенциалистов) важно то, приводит ли действие к хорошим результатам. Для третьей (деонтологов, от греческого слова “долг”) решающее значение имеет моральная ценность самого поступка. Некоторые действия, подчеркивают они, являются обязательными (например, долг заботиться), тогда как другие (убийство или обман) запрещены независимо от их последствий10.
Насколько сильно эти школы расходятся друг с другом, является предметом дискуссий. Философ Дерек Парфит представлял их последователей “восходящими на одну и ту же гору, только с разных сторон”11. Однако независимо от того, приводят ли философы конкретные примеры или мысленные эксперименты, они ищут универсальные истины. Историк, напротив, интересуется изменением морального ландшафта с течением времени, пытаясь понять взлет и падение моральных проблем и то, что люди в прошлом считали правильным и неправильным, пусть даже по сегодняшним стандартам или по стандартам философии это и неверно. Альтруизм, например, вполне может иметь глубокие корни в нашей биологии, но очевидно, что его масштабы сильно изменились с течением времени. Историк не поднимается “на ту же гору”, а плывет по реке, иногда глубокой, иногда мелкой, с течениями здесь и водоворотами там, всегда находящейся в движении и никогда не повторяющейся. Историкам не следует пытаться конкурировать с философами-моралистами в предложении нормативных объяснений мира12. Что они могут сделать, так это пролить свет на то, как люди в реальной жизни балансируют между призывом к долгу (относиться к людям как к цели, а не только как к средству, по словам Иммануила Канта) и полезностью (величайшее благо для наибольшего числа людей – максима Иеремии Бентама), и показать, как их моральный компас менялся, а иногда и вовсе выходил из строя.
Когда немцы сталкиваются с трудными решениями, они склонны обращаться за помощью не к философам, а к своему самому известному социологу Максу Веберу, который сто лет назад противопоставил “этику убеждения” (Gesinnungsethik) “этике ответственности” (Verantwortungsethik). Эти концепции не раз побывали в употреблении (не говоря уже о злоупотреблении). Снова и снова правящие политики ссылались на этику ответственности. Канцлер Гельмут Шмидт использовал ее, чтобы оправдать размещение американских ядерных боеголовок на территории Германии в 1979 году. Совсем недавно, в 2022 году, премьер Саксонии (относившейся к бывшей ГДР) раскритиковал санкции против России как отказ от ответственности за национальные интересы, ставящий под угрозу рабочие места и мир13. Согласно таким взглядам, пребывающему в хаосе конфликтующих интересов миру требуется Realpolitik, а не убеждения. Однако это не то, что говорил Вебер. Он не проводил резкого разделения между ценностью и инструментальной рациональностью. Настоящий политик – не холодный, расчетливый прагматик, а человек, действующий из преданности “делу”. Вебер надеялся, что политик дойдет до того момента, когда, чувствуя свою ответственность “сердцем и душой”, скажет: “На сем стою и не могу иначе”. Это были знаменитые слова Мартина Лютера, протестантского реформатора, на Вормском рейхстаге в 1521 году, когда он отказался отречься от своих убеждений. Что может быть более принципиальным, чем это?14
На протяжении этой книги будут постоянно подниматься три моральные проблемы – совести, сострадания и соучастия. Совесть – могущественный внутренний регулятор нашего поведения с долгой историей15. Именно наша совесть заставляет нас оценивать наши действия и себя в соответствии с тем, что мы считаем правильным и неправильным, и несоблюдение этих правил создает плохую ситуацию. Сенека в Древнем Риме считал, что люди несут в себе Бога. В эпоху высокого Средневековья монахи сравнивали совесть с лицом души и зеркалом, обращенным на человека. Лютер заменил внешнюю власть священства божественным внутренним голосом, который установил прямую линию между грешником и Богом. Протестантские элиты превратили совесть в форму мягкой силы, используя ее, чтобы заставить своих подданных соблюдать социальные нормы. Просвещение же дало совести более автономную роль. Для Канта она была одновременно “внутренним судом” и ощущением того, что его решениям необходимо следовать.
Было бы ошибкой полагать, что совесть сама по себе совершает “хорошую” работу. Ее история – это перетягивание каната между соблюдением норм и их нарушением в погоне за идеалом, который, как считается, требует более высокой лояльности. Такие идеалы могут быть как нелиберальными, так и либеральными. В Германии долг перед государством занял среди них особенно большое место. Совесть стала оружием, сначала когда немецкие солдаты приносили клятву Богу, а затем, после 1934 года, когда приносили “священную клятву” (heilige Eid) выполнять приказы фюрера. С высшей судьбой Volk и Гитлером, его спасителем, нацисты создали свою собственную чистую совесть, которая могла отбросить старые моральные проблемы и была выражена в знаменитых словах, приписываемых рейхсмаршалу Герману Герингу: “Мою совесть зовут Адольф Гитлер”. Как мы увидим, некоторые солдаты постоянно подвергали свою совесть допросу, но такими способами и с теми результатами, которые нам чужды и нас шокируют. После войны совесть превратилась в главное поле битвы за то, что значит быть хорошим немцем, а также противоборства между долгом перед государством и сопротивлением ему. В 1950-е годы это натравило миллионы ветеранов, считавших, что они следовали своей совести, сохраняя верность присяге, на группу старших офицеров, чье неудавшееся покушение на Гитлера в июле 1944 года теперь отмечалось как “восстание совести”, за которое они поплатились жизнью. На массовых демонстрациях против перевооружения протестующие несли плакаты со знаменитыми словами Лютера. Растущее число отказников от военной службы по соображениям совести привело к жарким дебатам о том, как выразить и проверить “внутренний голос”.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Пер. П. И. Вейнберга.