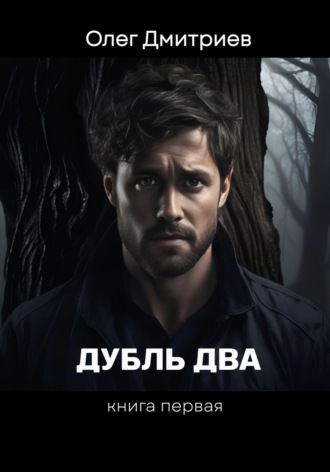
Полная версия
Дубль Два
– Да шучу я, шучу. Раньше, конечно, часть тела отдавали Дереву – тёмный народ-то был. Хотя, японцы вон, говорят, до сих пор своих так кормят. Не своих уже, вернее, – он снова помрачнел.
– Где расписываться кровью? – спросил я в шутку. Или нет – сам не понял.
– Кровью-то оно, конечно, вернее. Одно время, недавно ещё, думали, что связь Дерево на генном уровне устанавливает. Поэтому достаточно волосинки, слезинки, ноготка. Но всё равно эффективнее всего получается обмен, если человек своей волей кровь отдаёт.
– Чем обмен? – казалось, мозг из последних сил поднимает голову над столом, пытаясь если не вернуть контроль, то хотя бы уследить за ускользавшей ситуацией.
– Энергиями, так скажем, – кивнул старик. – Мир так устроен: отдал – получи. Не все помнят об этом, правда. Если согласен – скажи: «Да».
Я подумал последний раз. Терять мне всё равно нечего. Не далее как вчера я планировал вообще перестать смотреть этот сериал. И телевизор выключить. Из розетки. А тут – вон, спрашивают культурно, интересуются. Кажется, последний раз моим мнением интересовались в ЗАГСе, года три назад. Нихрена хорошего из этого не вышло, как выяснилось.
– Да, – прозвучало в странной постройке. И прутик, удивляя меня снова, поднял ближний ко мне лист так, чтобы кончик смотрел в мою сторону. Будто протягивал ладонь, приветствуя. И принимая клятву одновременно.
Глава 5. Удивительное рядом
Я поднялся и шагнул к веточке. Но Алексеич поднял ладонь, будто останавливая меня, и подошёл к странной этажерке первым. Стоя за его спиной, я смотрел на неожиданную конструкцию из нескольких ярусов. Сплошь деревянная, она смотрелась единым целым.
– Это и есть единое целое, – пробурчал дед, не оборачиваясь.
Присмотревшись, я понял: этажерка будто выходила из пола. Тоже сплошного и деревянного. Ого! Да он, оказывается, был сделан из цельного куска древесины – будто бы спил или, как сейчас модно говорить, «слэб», торец огромного ствола.
– Не будто бы – а самый настоящий ствол и есть, – старика, казалось, раздражала моя плавность мысли, деликатно говоря.
Я уставился под ноги. От края до края странного сооружения и вправду тянулся один и тот же рисунок концентрических кругов годовых колец. Кое-где его прерывали странные шрамы, словно кто-то или что-то ломало и уродовало огромное дерево. Но то продолжало расти, одолевая все невзгоды и напасти. Приковал внимание страшного вида клык, лежащий вросшим в древесину прямо возле ноги. Он был чуть короче моей босой ступни – обувь мы оставили снаружи, по-японски. А я носил сорок четвертый размер, между прочим.
– Раньше принято так было, всё самое дорогое и ценное Дубу дарить. Изловят зверюгу какую-нибудь, самый крепкий клык – дереву. Научатся ножи-топоры ковать, лучшую поделку – тоже ему, пояснил Алексеич, качнув подбородком чуть в сторону.
Там, дальше от центра, виднелась голова странного топора с почти прямым лезвием, мощным тяжёлым даже на глаз обухом, низко спущенной пяткой и длинной бородой, как у секиры или бердыша. Из непонятного серебристого металла. От края железки до стены было около метра. Сколько нужно времени, чтобы дереву нарастить поверх вбитого в ствол топора столько годовых колец – даже представить себе не мог. Клык от ближней к нему части лезвия был на расстоянии моего роста, а во мне сто семьдесят пять. Такой временной разброс в голове не укладывался совершенно.
– Это всё его ствол? – прозвучало глуповато. И вряд ли я выглядел умнее, чем слышалось то, что говорил.
– Да, – терпеливо ответил старик, – в основном. За стенами и под землёй ещё около метра тканей и коры.
– Тканей? – да, сообразительность – определённо сегодня не моё.
– Ну да. У нас – костная ткань, мышечная, нервная. У него – тоже, по-своему, – он посмотрел на деревце в центре. И оно будто кивнуло в ответ. Но это, наверное, был оптический обман на нервной почве. Мне, по крайней мере, было гораздо спокойнее считать именно так.
– Он сожалеет, что пугает тебя. Просто до посвящения нам, людям, и правда очень трудно понимать то, о чём они говорят.
Дед, выступающий переводчиком с деревянного, пугал меня не меньше говорящего дерева. Как и доисторические клыки в полу. И недавние пляски солнечных лучей. Но мне было очень интересно. Именно мне. Наконец-то я сам принимал важные решения и был готов нести за них ответственность. Жаль только, что так поздно. И похвалиться некому.
Я протянул леснику правую руку. Он повернулся, глянул и только головой покачал. Подошел к лавке, на которой сидел в начале, и достал из-под неё какой-то закрытый плоский ящичек, похожий на коробку с шахматами. Раскрыл, вытащил оттуда белый пакет из бумаги и пластика, смотревшийся в этом деревянном царстве лишним. Оторвал одно звено и вручил мне. Судя по надписям – сменные лезвия для скальпелей. И фирма с суровым названием: Volkmann.
Дед за левую руку проводил меня к обратной от входа стороне этажерки, по часовой стрелке, неторопливо. Там, на границе верхнего и второго сверху цилиндра, обнаружилось, хотелось сказать «дупло», но, скорее, углубление. И небольшая канавка возле. На приоткрытый рот было похоже.
– Погоди, не спеши, – старик придержал меня, пытавшегося уже распаковать стерильный конвертик с лезвием.
Он дошёл до своей лавки и вынул из-под неё, с кряхтением присев, банку. Обычную стеклянную банку, литровую, кажется. Я с такой в детстве на рынок за сметаной ходил. Не пустую – по плечики наполненную какой-то прозрачной жидкостью.
– Это чего? – с обоснованным, хоть и явно припозднившимся, подозрением спросил я.
– Слёзы единорога-девственницы, – буркнул лесник. – Вода это, из колодца. И не надо как в кино распарывать ладонь до костей – просто с краешку где-нибудь чиркни, чтоб несколько капель сцедить. Нужно, чтобы только чуть-чуть розоватой вода стала, этого достаточно вполне. Низкая концентрация компенсируется высокой скоростью и площадью всасывания, как-то так.
Он протянул мне банку, намекнув, что её удобнее поставить на пол, чем держать в руках. Дал и пластырь, обычный, бактерицидный – ленточку телесного цвета в таком же почти блистере, как и лезвие. И напомнил, что рабочую поверхность ладони и пальцев лучше поберечь.
Я примерился. Подумал, и примерился ещё раз. И третий тоже. Как-то не было привычки самому себе нарочно руки резать. Правду тогда сказал деду – не из тех я. Листья на веточках, казалось, следили за моими движениями. Но не кровожадно-нетерпеливо, а, скорее, с сочувствием. Испытать его со стороны дерева было неожиданно.
Полоснув-таки по внешней стороне подушечки под большим пальцем на левой руке, я протянул руку к банке. Боли почти не было – только странное, чуть тянущее ощущение. Красные бусинки, похожие на мелкие ягоды смородины на внешней стороне занавески, за которой я сегодня ночевал, сыпались в воду неохотно, прилипая к коже. И рукой не потрясёшь – полетят во все стороны, только испачкаюсь. На пятой или шестой капле Алексеич сказал:
– Хорош, достаточно. Цвет, видишь, сменился? Залепи ранку. А теперь бери и лей вон в углубление, только не спеши, не сразу всё. Надо, чтоб всасываться успевало.
Я наклонил посудину надо «ртом» странного дерева. Листья, казалось, стыдливо отворачивались. Тонкой струйкой влил розоватую воду. И с растерянностью посмотрел на старика.
– Сядь на лавку и жди. Минут пять-семь пройти должно. Если признает тебя Дуб – поймёшь сам, – он забрал банку и отошёл к той самой скамейке напротив, убрав тару вниз, откуда и доставал.
Я уселся на доски, оказавшиеся гладкими и будто бы даже мягкими, хотя такого быть, конечно, не могло. Прилепил на порез пластырь, к своему удивлению попав с первого же раза – обычно клейкие хвостики норовили слипнуться до того момента, пока белый лоскуток марли окажется над ранкой. Прислонился к стене, которая словно дружески обняла меня. Подивился этому неожиданному ощущению. И только хотел было спросить дядю Митю, когда же заработает обещанное «поймёшь сам», как оно началось.
Не знаю, с чем хотя бы примерно можно сравнить эти ощущения. Будто берёшь в руку горбушку от батона и сразу же понимаешь, кто его пёк, месил тесто, молол муку, вёз и сушил зерно, убирал и растил пшеничку. И что росло на том поле до неё. Каждый год. Лет триста примерно.
Или, держа в руке нож, чувствуешь, кто и где его ковал, откуда брал сталь, и сколько лет руда лежала в земле, прежде, чем стать железом. И кто ходил тогда по той земле над ней, проминая глубоко трёхпалыми когтистыми лапами.
Или отпиваешь глоток воды, а перед глазами проносятся конвейерные ленты комбината, по которым едут сотни одинаковых бутылок. И длинные трубы артезианских скважин. Грозовые облака, пахнущие озоном и жжёным миндалём, что роняли капли на далёкую землю внизу. И многие метры той самой земли, сквозь толщу которой просочилась небесная влага, прежде чем насос утянул её обратно наверх.
Но так было не сразу.
Началось всё с того, что, кажется, отключили одновременно свет, звук и гравитацию. Я замер-завис посредине ничего. Оно не было ни тёмным, ни светлым, ни холодным, ни горячим. Или не было его самого? Сложно описать. Я осознавал себя, Ярика Змеева. Но тела, к которому так привык за свою жизнь, не чувствовал совсем. И почему-то ничуть не переживал по этому поводу.
– Это как наркоз. Сон, хранящий здоровье. Без опыта слушать меня трудно, многие теряли себя, – прозвучало одновременно внутри и снаружи. Хотя это деление было очень и очень условным.
– Благодарю тебя за дар, человек. Я редко знакомлюсь с вами последнее время, поэтому прошу простить мне возможную бестактность. И старомодность, пожалуй, – продолжало звучать во мне и вне меня.
– Сейчас я коротко расскажу тебе свою историю. Отвечу на твои вопросы. И задам один свой.
Вокруг за долю секунды всё изменилось. У ничего появились стороны, верх и низ. Внизу была земля, покрытая густым ковром странного вида травы, похожей на папоротник и ёлочки хвоща, только высотой метра под два. Тянущиеся к далёкому небу странного ярко-синего цвета деревья я не узнавал. Кроме одного. Это совершенно точно был дуб, судя по коре, форме ствола и листьям. Только такой толщины, что за ним мог легко спрятаться Икарус. С «гармошкой». В середине, между высоко торчащих корней, виднелся чёрный зев не то дупла, не то пещеры, идущей, судя по всему, к центру дерева.
А потом на поляну возле него вышел человек. Ну, или кто-то похожий на него. Русые волосы заплетены в странные косы. Они, в свою очередь, заправлены за пояс. Сделанный, кажется, из живой змеи. В руках странный гость держал чей-то клык длиной сантиметров тридцать. С обратной от острия стороны покрытый яркой красной кровью.
– Прими мой дар. Хорошая охота. Сильный ящер. Много еды.
Охотник, или кто это был, не открывал рта. Он «говорил» мыслями. Они казались краткими и простыми. Или я просто не всё понимал. Подождав некоторое время, он шагнул в пещеру меж корней.
Картинка изменилась во мгновение ока. Под ногами был мох, обычный, ярко-зелёный. Ближе к центру поляны его сменяла невысокая, будто подстриженная, трава. По краям росли вполне знакомые дубы и сосны. Посередине стоял тот же самый, огромный. С тем же самым дуплом-пещерой. К ней подходил человек, в этом уже точно никаких сомнений не было. Русые волосы перехватывал на лбу плетёный ремешок. Светло-серая рубаха ниже колен. Руки, покрытые шрамами и ожогами. В них – голова топора. Его я тоже сегодня видел.
– Спасибо за науку, Боже. Проковал ладно, попробовал – знатно рубит! Черен оставил, для второго пригодится, а первый – тебе. Прими дар, не побрезгуй!
Он поклонился дереву. Постоял, будто прислушиваясь к чему-то. Улыбнулся и, склонившись, шагнул в дупло.
Та же поляна, но вместо мха – густой орешник, высокий, гибкий, весь в яркой листве. На одной и веток раскачивается птица. На скворца похожа, только покрупнее. Возле дуба стоит, уперевшись на высокий, выше него самого, посох со странной деревянной петлёй наверху, седой старик с длинными волосами и бородой. Перед ним прямо на траве – мужики, возрастом от моего, почти до дяди-Митиного. Слушают внимательно, на дерево за спиной старца смотрят с уважением, но без испуга. Серо-голубые глаза, русые волосы, похожие черты лица – родня, наверное.
А вот они же, только на другой поляне… Это даже не поляна – поле здоровое. Судя по кустам и деревцам вдали – там речка какая-то течёт. Может, и Якоть даже. Мы в детстве мимо такого же поля купаться бегали, помню. Только там в траве не лежали мёртвые люди. Здесь же их было явно больше сотни. Много смуглых, носатых, в странных халатах. И те, кого недавно видел на лекции у старца. А чуть дальше – куча черноглазых держала обмотанного, будто паучьим коконом, верёвками парня моих лет. У его ног лежала мёртвая старуха без головы, и тот самый дед со странным посохом. Деревяшка была изрублена в щепки. Дед – в лоскуты. В луже крови лежала девушка. Её светлые волосы превратились в красно-бурый колтун. Там, где не были вырваны вместе с кожей. Высокий черноволосый мужик в странном синем колпаке и черной одежде что-то орал на неизвестном мне языке в лицо парню. Тот стоял не шевелясь, будто неживой. Не переставая кричать что-то угрожающее, тот, в синей шапке, вытащил из-за спины упирающуюся девчушку лет семи. И сломал ей руку об колено. Малышка не плакала, только сдавленно икала, глядя с ужасом на десницу, что висела, чуть качаясь, согнутая в обратную сторону.
Парень неуловимым движением вывернулся из заверещавшей разом толпы и оказался возле рослого брюнета. Руки, связанные в локтях за спиной, помочь ему ничем не могли. Да и пальцев на них уже не было. Молча, без единого звука, вцепился он зубами в горло черного носача и, резко дернув головой, одновременно падая на колени, вырвал тому глотку. А падал он потому, что был уже мёртв. Визжащие от ужаса и злобы кривоногие черноглазые черти изрубили в кровавые брызги и его, и дочку.
– Они искали меня. Долго искали. На этой земле, между тремя большими реками, с закатной стороны от Северных Увалов и до самой Белой Гряды, нас было три дюжины. Осталось двое.
Я, тот, который без туловища, верха и низа, поднялся над полем, отдаляясь от верещащих людей с саблями, что, кажется, уже начали пожирать тела тех, кого изрубили. Показался край леса. Потом он стал виден весь, целиком. И тёмная крона дуба в самом центре неправильной формы круга, который образовывали другие деревья, вздымалась гордо. И скорбно. Поднявшись ещё, за облака, гораздо выше, чем летали птицы, разглядел с трудом нитки главных рек, в которых искрилось Солнце. И такие же искорки будто мерцали в сердцах дубрав, березняков и хвойных лесов. И гасли одна за другой, поглощаемые тёмным маревом, что волнами накатывало сперва с юга и востока, а потом и с запада. Одна искра осталась прямо подо мной, между Волгой и Десной, ближе к Волге. Вторая – западнее, ближе к Десне. Ориентироваться по местности, на которой не было водохранилищ и привычных каналов, а ещё городов и дорог, было сложно. Но как-то получалось.
– Теперь нас меньше трёх дюжин на всей Земле. А было сорок сороко́в. И из сил – только память. Знания. И вера нескольких преданных друзей. Не лучший расклад, конечно. Но какой есть. Спрашивай.
Я будто открыл глаза. Хотя не помнил, чтобы закрывал их. Та же круглая комната. Та же лавка. И тот же дядя Митя рядом, смотревший мне в глаза с тревогой. Только вместо прутика на этажерке – ровесник мира, свидетель ужасов и побед, великий и могущественный разум, память само́й Земли. И одно из последних Её великих творений, сохранивших преданность Ей. Мы с лесником сидели у него на коленях. Потому что он был здесь всем: стенами, крышей, полом. И под землёй простирался на десять шагов в каждую сторону.
– Как мне звать тебя? – выдохнул я, попутно удивившись, зачем надо было напрягать рёбра, пресс, язык и голосовые связки, если можно гораздо проще.
– Как я могу тебя называть, чтобы не обидеть нечаянно незнанием? – мысль передавала больше, чем самая артистичная интонация.
Дядя Митя, казалось, услышал подуманное мной – брови разошлись от переносицы, на лице расцвела улыбка, словно он встретил родного человека после долгой разлуки.
– Как хочешь – так и называй. Нам не нужны имена. Это вам сложно говорить и думать о том, чему нет названия. До поры. Митяй зовёт меня бесхитростно: «Дуб», – если мне не показалось, то в потоке проскользнула ирония. «В потоке» – потому что это не было сказано, произнесено, продумано или как-то по-другому воспроизведено. Это была чистая энергия, что струилась вокруг и сквозь меня, откуда я мог достать то малое, что было доступно. И надеяться на то, что со временем будет доступно больше. И что это время настанет. И мне доведётся встретить его живым.
– Он хорош, Митяй. Он умеет и не боится думать. Теперь ты понимаешь?
– Да, Дуб. Хорошо, что ты настоял. Едва не разминулись мы со Славкой, – мысли деда не были потоком энергии. Они воспринимались её сгустками. Пришло на ум странное сравнение: Дуб играл на орга́не, как музыкант-виртуоз. Лесник одним пальцем тыкал в детское пианино на батарейках, пробуя попасть в мелодию.
– Я рад встрече и знакомству, Дуб. Жаль, что не смог встретить тебя раньше. Скажи, чем я могу помочь тебе? – я надеялся, что мои мысли будут звучать хоть немного складнее дедовых.
– Рад и я. И сожалею о случившемся с тобой. Это плохо и неправильно. Но это наука и опыт, а они редко бывают приятными, к скорби моей. Почему ты сказал «Славка», Митяй? – один из листов на правой ветви дрогнул, будто Дуб заинтересованно поднял бровь в сторону Алексеича.
– Ты же знаешь. А, надо, чтоб он тоже знал, я понял, – и лесник рассказал-промыслил его давешнюю выкладку про Ярь и Славу, и их соотношение во мне.
– Логично. Разумно. Но неверно, – Дуб отозвался тут же. И, кажется, эту связку сочетаний он донёс привычно, будто привык повторять её очень часто, как любимую поговорку.
– В нём редкий по нынешним подлым временам запас Яри, Митяй. И это вредило ему всю жизнь. Нельзя жить вольно, пытаясь угодить сперва родне, потом любимой, потом князьям. Не умеет. Но хочет научиться. А значит – может. Ты спросил, чем можешь мне помочь, Яр. Начни помогать с себя. Из больного – плохой лекарь. Из немого – неважный певец. Слабый – не лучший защитник.
Я чувствовал, что Дуб сообщал что-то бо́льшее. Но мне не хватало понимания. Как в той истории с измерениями.
– Да, я хочу научиться. Ты можешь дать мне мудрость и силу, Дуб? – мне казалось, что каждая следующая умозрительная реплика, если можно так сказать, получалась легче и свободнее.
– Ты уже учишься. А мудрость и сила изначально даны каждому разумному. Развивать их, оставить как есть или отказаться от них – личный выбор. Тобой всегда двигал долг, воспитанный с юных лет. Ты был должен слушаться, выполнять указания, соответствовать ожиданиям. Не вини за это родителей, это не их ошибка. Их самих так воспитали. Долг и рабство – разные вещи. Ведь даже понятия отличаются. Вас слишком давно приучили подменять одно другим.
Казалось, я по-прежнему понимал не всё, что сообщал Дуб. Так бывает, когда начинаешь учить чужой язык и читаешь текст на нём – догадываешься о смысле по знакомым словам и контексту. А ещё мне припомнились учения и религии, где деревья давали знания. И везде это откровенно порицалось. Но те, кто повисел на копье, прибив себя к стволу, или отведал плодов, признавались равными Богам. Правда, пользы с того было очень по-разному.
– Он определенно хорош, Митяй! Он учится на несколько порядков быстрее. До сказки о вашем одноглазом Боге дошёл после третьего вопроса, из которых один был данью вежливости, второй показал его человеком чести, а третий раскрыл его слабость.
Лесник светился гордостью, будто я был его любимым учеником или родным сыном.
– Да, ты можешь стать сильнее и мудрее, Яр. Ты слишком часто умирал за краткий промежуток времени даже для людей. Потеря части себя – всегда смерть, что бы ни говорили ваши пророки. Ты сохранил жизнь, пусть и волей случая. И взял её в свои руки. Я полагаю, тебя ждёт большое славное будущее. Или спокойная размеренная жизнь. Потому что теперь ты знаешь, что сам волен выбирать дорогу.
– Задавай свой вопрос, Дуб, – попросил я. Мне в голову не шло больше ни единого вопроса, которым стоило бы прямо сейчас озадачивать разум такого уровня и масштаба. В ней, в голове, вообще стало как-то просторно и свободно. Казалось, все накопленные за всю жизнь знания могли поместиться в спичечном коробке. А я стоял даже не под сводами храма вселенской мудрости. А под высоким чистым небом. И мудрость была вокруг меня. Я знал, что могу научиться находить её сам.
– Сколько зим своей жизни ты готов подарить мне, Яр? – в вопросе не было даже намёка на эмоции.
– Возьми столько, сколько считаешь нужным, Дуб, – я, кажется, начал отвечать раньше, чем завершилась мыслеформа.
Никогда не умел торговаться. С мамой на рынке мне было неловко. Даже когда узнал, что это особое правило коммуникации, что купить у восточного человека что-то не торгуясь – значит, обидеть его. Даже это понимание не убирало неловкость, испытываемую с детства. С Богами торговаться было вообще как-то глупо. Особенно принимая во внимание то, что я, судя по скорости ответа, начинал всё лучше понимать этот странный язык энергий.
– Без яри в душе так не ответить, Митяй. Теперь, в это время, один человек из нескольких тысяч не стал бы считаться, выгадывать и искать свой прибыток. И ты привёл именно его.
– Ты всегда учишь, что случайности не случайны, – Алексеич почтительно склонил голову.
– Именно так, Митяй. Именно так.
В безмолвном разговоре возникла пауза. Лесник сидел рядом, не сводя с Дуба глаз. Я продолжал восхищаться той широтой и высью, что открылась мне в моём же собственном сознании. Чем занимался Дуб – даже думать не хотелось. Я понял тех, кто из поколения в поколение отдавали ему самое дорогое и важное. У меня кроме этой жизни, если вдуматься, ничего не оставалось. И пожертвовать… Нет, неправильное слово. И подарить её ему было не самой плохой идеей. С его знаниями и возможностями он явно использовал бы мою силу лучше меня.
– Я благодарю тебя, Яр! – необъяснимое чувство радости и щенячьего восторга вспыхнуло в голове, душе, сердце, в каждой клетке, кажется. Хотя за что было меня благодарить – не понимал.
– Но меня же не за что, – оказывается, и мысль может «звучать» растерянно.
– Ты открыл сердце. Ты готов меняться. Ты знаешь о чести. Это достойно благодарности и уважения, человек. И если ты готов принять совет – я дам его.
– А как же отдать годы жизни?
– Ты вряд ли сможешь представить или вообразить, как долго я живу. И за всё это время я так и не научился забирать силу у тех, кто слабее.
Глава 6. Советы мирового древа
Мы вышли из странного овина, который одновременно оказался и оранжереей, и обсерваторией, и музеем, и алтарём. Алексеич, проходя мимо шнура к бане, пощупал портянки и досадливо поморщился – не высохли. Я упал на лавку и попробовал унять хоровод мыслей, что кружил и увлекал, не давая сосредоточиться ни на одной. Буквально любая тянула за собой из памяти обрывки образов, странных очертаний, форм, звуков, цветов и запахов. Которых там до этого точно не было. Откуда бы мне помнить, как пахнет папоротников цвет?
Дед вернулся из избы с чайником в одной руке и двумя эмалированными кружками в другой. Сел на лавку с другого края и расположил между нами всё принесённое. Из кармана штанов достал банку сгущёнки. И вторую – из другого. Разложил неторопливо складной нож, старый, сильно сточенный, с чёрными пластмассовыми накладками на боках рукоятки. На них была изображена странного вида белка, с коротким хвостом, непропорционально длинная и какая-то толстозадая. Лесник пробил по две дыры в каждой из банок: одну побольше, вторую совсем небольшую, чтоб только воздух проходил.
– На-ка вот. Я всегда, когда от Дуба выхожу, полбанки выпиваю. Он говорит, что нам трудно с непривычки много информации усваивать, мозги сладкого требуют. Столько лет хожу – а всё никак привычку не выработаю, – проговорил он и присосался к банке.
Я повторил его движение, отметив, что руки холодные и дрожат. Пришлось держать жестянку двумя ладонями. Сладкая густота, казалось, до желудка не доходила – всасывалась сразу во рту и напрямую попадала в мозг. Почудилось, что вокруг даже как-то просветлело. Только сейчас заметил, что в глазах было темно с того самого момента, как вышли из овина.
– Амбар. Дуб говорит, что это слово лучше подходит. Древние персы так называли свои хранилища, потом и у нас прижилось. Была бы печка внутри – был бы овин, – дядя Митя снова ответил на вопрос, не прозвучавший вслух. Я кивнул, не отрываясь от сгущёнки.
Запивая прямо из носика, мы «чаёвничали» до тех пор, пока моя банка не стала издавать неприличные звуки, а после опустела вовсе. Дед отставил свою раньше. Видимо, какая-никакая, а привычка у него всё-таки была.














