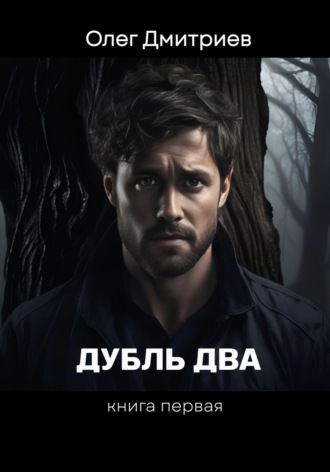
Полная версия
Дубль Два
Планшет был китайский, недорогой и не новый, но заботливо завёрнутый в полиэтиленовый пакет. Я таких давно не видел – сейчас перешли на тонкие, шуршащие. Новый материал назывался «ПВД», «полиэтилен высокого давления». Он был экономичнее, дешевле и гораздо слабее того, который «низкого давления» – тот потолще, поплотнее и покрепче. Когда я был маленьким – мама стирала пакеты и вешала сушиться на кафельный фартук между плитой и раковиной, мазнув по плитке коричневым хозяйственным мылом. С тонкими шуршащими недоразумениями такой номер вряд ли прошёл бы. Да и недостатка в них теперь не было – в каждом магазине по нескольку рулонов, рви – не хочу. У деда же пакет выглядел стиранным неоднократно – почти непрозрачный. С историей вещь.
– Вот! Сын подарил, – гордо похвалился старик. – Гляди, видал такое?
И показал мне на экране планшета одну из иконок приложений. Там их было всего штук пять-семь, даже удивительно. А указывал он на синий квадратик, в котором распахнула крылья какая-то белая птица с хохолком и раскрытой книгой на груди. Это я знал – сам таким же пользовался. Импортных новинок детективов, хоррора и прочей жести, что любила читать Катя, там не было, зато современной отечественной прозы – почти вся. Я читал про попаданцев и городское фэнтези. Было интересно. Иногда задумывался, что тогда, в прошлом, было как-то проще и честнее, что ли.
– Тут один сочинитель пишет знатно, про ведьм, оборотней, упырей всяких, что вокруг нас живут, – оживлённо вещал Алексеич, – забавно выходит у него. А парни, типа тебя, Сашка да Валерка, попадают в разные истории.
Я моргнул и сглотнул. Легче не становилось. Дядя Митя, сидя на камне и дымя самокруткой, продолжал мне рассказывать, в деталях и весело, про банкира и архивариуса, о которых я и сам с удовольствием читал раньше. Пока… Ну, в общем, можно сказать так, что с «Миром Ночи» я познакомился до того, как всю мой собственный мир поглотила чёртова тьма.
– А про Кортеса и Головина читали? – робко спросил я, когда дед выдохся рассказывать про старую паскуду Шлюндта.
– Про Головина чего-то помню, было недавно. Он ещё с Волковым и банкиром одним барагозил, тоже интересно. А Кортес – он пират, вроде, не? – заинтересовался старик.
Я рассказал странному деду про «Тайный город». Про зелёных ведьм он слушал с особым вниманием. Про рыжих рыцарей и воинов Нави – с меньшим интересом. Но автора и название записал. Я же про историю какого-то Волкова не читал – видимо, недавно вышла книга. За последние полгода я читал в основном свидетельства. Чаще – лилово-фиолетовые. И серо-синее вот недавно.
– А ты мне номер свой дай, я тебе ссылку на цикл и пришлю, – воодушевлённо предложил старик. Я продиктовал ему цифры, но сказал, что телефон в гараже забыл. Случайно.
– Ну ничего, вернёшься – почитаешь, – не расстроился, кажется, он, – а фамилие какое у тебя? – так и сказал, в среднем роде.
– Змеев, – ответил я. А дед едва не выронил пустую уже бутылку, что ставил на камень. И посмотрел на меня как-то странно. Очень пристально, будто пытался вспомнить, где видел раньше. Или прочитать что-то, написанное у меня на лбу. Мелким шрифтом. С внутренней стороны.
Крякнув, поднялся с камня. Взял за края газету, на которой лежали две пустых скорлупы и хлебные крошки. Донёс до той самой сосны, с гостеприимно протянутой веткой. Высыпал под корень, что-то, кажется, приговаривая, и погладил дерево по коре, будто прося прощения за что-то. Подошёл к камню, складывая на ходу и убирая обратно за пазуху бумагу. Вслед за ней спрятал планшет и коробок с солью. Бутылку поместил в боковой карман брюк. Оглядел полянку придирчиво. И протянул мне руку.
– Пойдём со мной, Ярослав Змеев, – проговорил он серьёзно. И продолжил другим тоном, попроще, – если ты не планируешь дальше птичек ловить, качельку ладить, ну или чего ты там собирался, на суку́-то.
– Куда? – запоздало насторожился я, уже протянув ему ладонь и поднимаясь с камня. В ушах зашумело, а вокруг будто чуть темнее стало.
– Крышу мне починить поможешь. Лесник я здешний, Евсеев Дмитрий Алексеич. Глядишь, и я тебе помогу. С крышей-то у тебя тоже беда явно, – будто под нос буркнул он последнюю фразу и шагнул в сосны, махнув следовать за собой.
Надо же, и вправду дядя Митя оказался. Не обмануло предчувствие, или чего там это такое было? Интуиция? Не верил я в неё никогда. Сказки это.
Лесник шёл широким шагом, но плавно, неспешно, будто плыл через лес. Мы прошли насквозь полянку с можжевельником – никогда не слышал, чтоб он вот так рос, целыми островами. Обошли густой ельник, пройдя под серо-чёрными старыми осинами. На следующей поляне оказалась огромная необхватная липа. Не встречал никогда их в лесу. Думал, только на аллеях растут. Под деревом стояли пять ульев. Удобно кто-то придумал. Здесь, пожалуй, и вправду можно взять настоящий липовый мёд. Катя любила пионовый. Он стоил впятеро дороже обычного. А на мои слова о том, что там в банке точно такое же разнотравье, как и в соседней, потому что пчеле не объяснишь, что с этого цветка брать можно, а с соседнего – нет, лишь хмыкала. Говорила, что я ничего не смыслю в марке́тинге. Ну да. Я даже в том, где там ударение надо было ставить уверен не был. Думал, что на «а».
Через минут пятнадцать или около того показался просвет между деревьями. Ещё через какое-то время мы вышли на открытое место. В кольце странного глухого забора, будто бы плетня между живых, растущих кустов и деревьев, стояли три постройки. Тянулась в небо стрела «журавля», видимо, над колодцем. Сто лет таких не видал. Старик отодвинул плетёный щит, который я бы не нашёл ни за что, и пропустил меня вперёд, заслонив проход, как и было. Домишко с подворьем был небольшой, на два окна, и низенький. В дальнем от него конце, ближе к колодцу, стояла закопчёная совсем уж крошечная избушка. Наверное, баня. И какой-то странный круглый не то сарай, не то овин, или где там зерно раньше хранили. На память пришло слово «гумно», но в нём я уверен не был. Странный день продолжался.
Дядя Митя усадил меня на колоду возле бани, а сам начал на стоявшей рядом такой же щепать лучину. Махнув с десяток раз топориком, снял фуражку, утёр пот носовым платком, повесил снятую куртку на торчавший из бревенчатой стены гвоздь. И надел головной убор обратно. Волосы у него были короткие, густые и совсем белые. А гвоздь в стене был кованый, трёхгранный. Я такие только в краеведческом музее видел.
– Воды набрать сможешь? – спросил он меня, выйдя из бани, откуда уже тянуло дымком.
В руках лесника было два ведра, обычных, оцинкованных, но с верёвочными дужками. Я молча взял их, кивнув и направившись к торчащей вверх шее «журавля». Оказалось – ничего сложного, опустил длинный, метра на три, шест вниз, поднял, перелил, повторил. Даже не облился почти. Только голова закружилась сильнее.
– Умойся, полегчает, – раздалось из-за спины.
Я умылся, отойдя от колодезного сруба несколько шагов в сторону забора-плетня. Тут были какие-то грядки. Я узнал лук и перец, острый, красный, мелкими стручками. Он рос под какой-то колбой чуть ли не в полметра высотой, покрытой изнутри испариной. И вправду полегчало. Вода была ледяная, но как будто даже сладкая.
Я вернулся на ту же самую колоду. Алексеич сходил в дом, возвратился с какими-то простынями и полотенцами на плече. В руках держал запотевшую трёхлитровую банку с чем-то тёмным, похожим по цвету на хороший чёрный кофе, и два гранёных стакана. Поставил стекло на пень, где щепал лучину, а тряпки повесил на шнур, тянувшийся от бани к странному овину. Или гумну. Наполнил осторожно оба стакана и дал один мне. От поверхности отрывались крошечные пузырьки, а в нос ударил добрый дух ржаных сухарей. Обоняние не подвело – квас оказался высшего класса, в меру сладкий, в меру кислый, и не в меру холодный. Но зашёл как родной.
– Ну, рассказывай, Змеев Ярослав, – вздохнул лесник, осушив свой стакан. По стенке стекал мутноватый осадок оттенка кофе с молоком.
– О чём? – на всякий случай уточнил я. Квас, казалось, шибанул не только в нос.
– О том, с какой такой сильной радости ты взялся по соснам лазить, – терпеливо ответил он.
В последнюю очередь я думал, что сегодня придётся с кем-нибудь беседовать. Тем более об этом. Хотя, наверное, вряд ли подготовился бы, даже если б знал. Вздохнул поглубже. Хлебнул ещё кваску, чуть остудив сердце, что снова подпрыгнуло над ключицами. Нашарил сигареты, прикурил. Дед молча ждал.
– С женой развелись вот, – выдохнул я, наконец, немного собравшись с мыслями. Фраза оказалась скучная и совсем не страшная. Снаружи. Внутри от неё продолжало колотить.
– Неужто последняя? – ахнул с ужасом Алексеич, и даже ладонь к усам прижал.
– Кто? – растерялся я.
– Жена, кто! – нетерпеливо воскликнул он.
– Как это «последняя»? – продолжал тормозить я, – она одна у меня была всего…
– У тебя – это понятно! – уже как-то даже возмущённо перебил дед. Прозвучало немного обидно. – Но вообще в мире – последняя же? Единственная на планете баба ушла от тебя к другому, бросив тебя, бедолагу, на тоскливо-позорном перепутье между целибатом и содомией?!
Такой постановки вопроса я точно не ждал. И тяжело закашлялся, подавившись дымом. Со стороны смотрелось, будто внутри меня готовился к извержению вулкан: следом за дымом надо было ждать облаков пепла и потоков лавы.
– Нет, – чуть продышавшись, ответил я на все части вопроса, и про единственную, и про перепутье.
– Ну слава Богу, – облегчённо выдохнул лесник. – Я-то испугался было – то четыре миллиарда оставалось, а то вдруг последняя от Славки ушла!
Я смотрел на него растерянно. Странный дед, видимо, издевался над моим горем, но это почему-то не казалось обидным.
– Думаю, не всё ты мне рассказал. Давай-ка с самого начала, – и он снова посмотрел на меня тем же пристальным взглядом, что и в лесу.
И меня как прорвало. Я начал с самого начала – с садика и школы. С города, в котором рос, и деревни, где отдыхал каждое лето. С мамы и папы. Не забыл про Сашку, лежавшего под серым камнем на Будённовском кладбище. И про Чапу, что лежала под берёзкой на берегу. Про все события этого года, про весь их проклятый чёрный хоровод. Говорил долго. Остановился на том, где с камня уползала толстая старая змея, будто решив, что я её солнечное место надолго не займу.
Алексеич поднялся, подошёл и крепко обнял меня. Как батя когда-то давно. Потом отпустил, похлопал по плечу как-то по-особенному бережно, и скрылся в бане. Оттуда послышались звуки, будто он взялся полы подметать. Вернулся красный и вспотевший. Снял с лавочки у двери какие-то лоскутные половички, которых я до этого времени не замечал, и нырнул обратно.
– Пошли, Славка, париться. «Баня парит, баня правит», как раньше говорили, – позвал он, усевшись на ту же лавку и стягивая старые сапоги. Под ними обнаружились портянки. Чистые.
– А почему Вы… почему ты меня Славкой зовёшь, дядь Мить? – спросил я неожиданно даже сам для себя.
– Потому что Славы в тебе пока мало, дай Бог если на Славку наберётся. А Яри как не было – так и нет. Племяш, – ответил он, хмыкнув в конце.
Мы разделись и зашли в низкую тёмную парную через совсем уж крошечный предбанничек. Алексеич наказал не трогать руками стены и потолок, садиться и ложиться только на полки́, крытые половиками. Дух в бане стоял какой-то совсем непривычный – не было ни эвкалипта, ни мяты. Зато я, кажется, узнал можжевельник, что пах в точности как утром на той полянке. И сладкий душистый липовый цвет. И, кажется, багульник, чуть круживший голову. Несколько ароматов крутились в памяти, но уверенности в их названиях не было.
Первый заход короткий, минут пять, наверное. Но пот покатился с меня сразу, густо. Вышли чуть остыть на лавочку, глотнули квасу – и обратно, во мрак и жар.
Второй раз сидели дольше. Старик ровно дышал, закрыв глаза, а я слушал сердце, которое то снова подскакивало к горлу, то замирало, будто пропуская пару ударов. Когда вышли на воздух снова, Алексеич сходил в дом и вынес мне кружку какого-то отвара. Он горчил и холодил одновременно. Наверное, с мятой был.
В третий раз лесник загнал меня на верхний поло́к и поддал на каменку, скрывавшуюся в тёмном углу и различимую лишь по еле слышимому пощёлкиванию остывавших белых фарфоровых изоляторов, какие на старых столбах линий электропередач встречаются, и запаху раскалившегося металла. Под потолком разлилась шипящая волна, пахну́вшая донником и, кажется, ромашкой или пижмой. А дед выудил из какого-то ушата пару веников. Меня удивило то, что один из них, вроде бы, был крапивный с можжевельником. И то, что я знал слово «ушат».
Глава 3. Занимательная история
Заходили, кажется, раз семь, но один-два я, пожалуй, мог и не запомнить – Алексеич раскочегарил-наподдавал так, что, как говорится, уши в трубочку заворачивало. В глазах старика под конец мне тоже пару раз мерещился отблеск огня. Но не багровый или красный. Именно пламя, бело-желтое, солнечное. Совершенно неожиданное и, кажется, абсолютно неуместное в лесной бане по-чёрному.
На лавочке сидели молча, потягивая из глиняных чашек какой-то травяной чай, что лесник принёс из дому. Все в белом, как два новорождённых. Или ангела. По поводу одежды вышел странный разговор.
– Держи, надевай, – он протянул мне стопку белья.
– А мои вещи где? – удивлённо спросил я, принимая, между тем, выданное.
– Ты не родной, что ли? Чтоб после бани, да в ношенное рядится? – возмущённо нахмурился старик. – Бери, чистое.
Я натянул на отмытое до хруста тело такие же хрусткие от крахмала, или чем там обрабатывают бельё при стирке, рубаху и кальсоны. Натуральные подштанники, с вязочками внизу, на тряпочных пуговках. Это было то самое нательное, которое я видел только в старых фильмах про войну. Но пахло какой-то особенной свежестью. И, кажется, какими-то травами.
Я не мог вспомнить, когда последний раз так себя чувствовал. Тело словно не весило вовсе, и хотелось ухватиться рукой за лавку, чтобы не улететь в тёмное небо, к разгоравшимся звёздам. Солнце зашло, кажется, не так давно, но темнота здесь, в лесу, меж высоких сосен с одной стороны, и елей ещё выше – с другой, наступала будто бы мгновенно. Было удивился, когда вышли и сели, почему комаров нет. Хотя по детству прекрасно помнил: свирепствующие до десяти, половины одиннадцатого – край, после этого времени они в наших краях дисциплинированно ложились спать, пропадая все до единого. Мы с Саней удивлялись по этому поводу, а его бабушка, баба Шура, объяснила, что носатым и на ярком солнце плохо, и на сильном ветре, и в темноте вечерней тоже. «Капризная скотина комар» – так она сказала тогда. Саня многих ребят из «соколовских» до трясучки потом этой фразой доводил, про капризную скотину.
Ветра не было. Тянуло дымком и травами из раскрытой двери бани. Смолой и хвоей – из-за странного плетня. И росой. Никогда не думал, что у росы есть запах, и что я смогу его различить.
– Зачем я тебе, дядь Мить? – спросил я в звенящей тишине ночного леса под далёкими звёздами.
– Хороший вопрос, Славка. Правильный. Только прежде, чем я тебе на него отвечу – сам себе ответь вот на какой: «зачем ты себе сам?». Пойдём укладываться, завтра поговорим. Утро вечера мудренее, – дед со вздохом встал с лавочки, занёс в предбанничек ведро воды и чистое полотенце, что так и висело на шнуре слева.
– Благодарю, батюшка-банник, за парок добрый, уважил так уважил. Попарься и сам на здоровье, – проговорил он в темноте, поклонившись печке.
– Давно один в лесу живу, да и старый уже, привык разговаривать с тем, кого нету, – будто бы смущённо пояснил Алексеич.
В дом заходили по невысокой, ступенек в пять, лесенке. Дед держал фонарь, диодный, китайский, на батарейках, светивший пронзительно-холодным белым светом. Как в морге.
Справа – подворье под крышей: дровяник, какие-то пустые загоны по грудь высотой, для скотины, наверное. Наверху – настил, откуда доносился запах сена.
– Сортир – там, – махнул он прямо, на крашеную зелёной, кажется, краской дощатую дверь с непременным сердечком, выпиленным в средней доске. Удачное изобретение – туалет под крышей и сразу за стенкой. Таскаться на край участка впотьмах не надо.
Слева, скрипнув, отворилась тяжелая невысокая дверь, и мы по очереди, пригнувшись, вошли в дом. Лесник прошёл вперёд, скрывшись во тьме, которую почти сразу разогнал неровный жёлто-оранжевый свет. Свечи?
Точно. Дед вышел из-за печки с подсвечником в одной руке и, вроде, керосиновой лампой в другой. За стеклом керосинки плясал огонёк свечи. Судя по запаху – настоящие, восковые, не стеариновые, или из чего там их сейчас делают?
Справа от двери нашёлся на стене серый железный рукомойник с раковиной, внутри бело-рыжей от ржавчины, снаружи чёрной, и ведром под ней. Дальше вдоль стен метра на полтора тянулись полки с какими-то банками, пузырьками и свёртками крафт-бумаги. Потом шла печь, настоящая, русская, будто бы недавно побелённая. В маленьком доме она, казалось, занимала если не половину, то точно треть свободного места. За печкой, судя по углу стола и стулу с гнутой спинкой, была кухня, где вдвоем и встать-то, наверное, проблема. Через перегородку от неё – горенка, видимо, в которой я увидел только спинку кровати. Старая, панцирная, с шишечками по углам. Слева, за вешалкой, был дверной проём, закрытый занавесками. Нарисованные на них гроздья красной смородины почему-то приковали мой взгляд сильнее, чем остальные детали, громко говоря, интерьера.
– Там ложись, – махнул дед на смородиновый занавес. – Там сын мой ночует, когда в гости заезжает. Бельё чистое, ляг и спи. Там травы поверху висят, головой, смотри, не зацепи, да руками не маши особо.
– Почему? – уточнил я, будто привык с детства в гостях перед сном махать руками.
– Зацепишь – осыплется, спать будет неудобно. Сухая трава колется, – как дураку объяснил хозяин.
Я зашёл, неся свечную керосинку, что дал мне в руку дед. Комнатёнка узкая, как купе. Слева койка, впереди тёмное окно за занавесками. Под потолком гирляндами шнурки с метёлками свисавших трав. Поставил, задув свечу, светильник на пол, на такой же лоскутный половик, как и в бане. Сел на скрипнувшую кровать, стянул ногами войлочные чуни, тапки из валенок с отрезанными голенищами. Носки с футболкой и трусами, выстиранные по наказу деда, висели на шнурке, что пропадал в темноте по направлению к гумну. Или овину.
– Спокойной ночи, дядь Мить, – сказал я в сторону занавесок. С этой стороны смородина на них была чёрная.
– Доброй ночи, Славка, – раздалось оттуда. – Наконец-то доброй, – последняя фраза прозвучала еле различимо. Или вообще послышалась мне.
Едва голова коснулась подушки, как стала тяжёлой, будто школьный ранец, когда впереди восемь уроков, и книжки в нём лежат так плотно, что пряжка еле застёгивается. Снилась мне смородина. Чёрная. Крупная и сладкая.
Разбудили запахи. Сытные и живые. Давно таких не было по утрам.
Не раскрывая глаз, будто боясь спугнуть ощущение, я внюхивался, как потерявшийся щенок, учуявший след хозяина. Так было в детстве, когда просыпаешься на выходных, в школу не надо, а с кухни звучат голоса родителей и доносятся ароматы завтрака. Я любил сырники с вареньем, смородиновым или вишнёвым. А ещё колбасу, жареную. Ей и пахло сейчас. А ещё гренками из чёрного хлеба на настоящем, подсолнечном, а не пальмовом с добавлением подсолнечного, масле. Голова была ясной и чистой, будто вчера и её вымыли. Изнутри.
На занавесках обнаружились сказочные птицы в коронах и с пышными хвостами, глядящие друг на друга. И на лучи солнца, что пробирались через сосны за плетнём.
– Доброе утро! – сказал я, выйдя из-за занавесок в сторону кухни, где заметил спину лесника в белой майке.
– Доброе, Славка! – откликнулся он, не поворачиваясь. – Умывайся – и за стол, почти всё готово как раз. Твоё полотенце правое.
Я позвенел носиком рукомойника, умывшись с серым хозяйственным мылом. С ним же, пальцем, почистил зубы. Полотенце, висевшее на указанном месте, оказалось настоящим рушником, которые я до сих пор видел только в том же музее, где и трёхгранный кованый гвоздь. На моём были вышиты какие-то угловатые птицы. Наверное, петухи, судя по гребням и шпорам. Красные. На висевшем рядом рушнике, видимо, дедовом, птицы были чёрные.
На столе стояла большая чугунная сковорода, в которой шкворчала яичница с колбасой, радостно тараща на меня свои ярко-оранжевые глаза. Таких в городе не купишь, пожалуй. Поднимался парок от стопки ржаных гренок и от чашек с чаем.
– Садись, чего застыл, как не родной? – махнул Алексеич на табуретку. Основательную, как и всё здесь, массивную, крашенную белой краской и с круглым лоскутным покрывалом-подушечкой сверху.
– Приятного аппетита, – вежливо кивнул я старику.
– И тебе на здоровье, – ответил он и захрустел гренком.
Завтракали в тишине. Я всегда любил именно так. Разговаривать надо после, а с утра пищу требуется принимать вдумчиво, с почтением – ей тебя весь день греть и питать. Просто так под пустой разговор напихать в живот чего попало, а потом жаловаться на гастриты и прочие упадки сил – не мой вариант. Так Катя обычно делала: ела с телефоном наперевес, или читая, или глядя какие-то ролики, не обращая внимания на то, что глотала и как жевала.
Мысль о ней впервые, кажется, за несколько недель не заставила вспоминать правила дыхания «по квадрату» и искать на запястье, на гороховидной кости, точку, что помогала при тахикардии и аритмии. Я даже замер, перестав жевать.
– Ты про еду лучше думай, а не про бывшую свою, от неё пользы всяко больше, от еды-то, – пробурчал лесник, отхлебнув чаю. Он внимательно смотрел на меня поверх своей эмалированной кружки.
– А как ты узнал, дядь Мить? – я даже вздрогнул от неожиданности.
– Так я ж леший. И колдун я, ага, – ухмыльнулся он, поставив чашку. – Мне, Славка, лет много, я живу долго, видел всякое. Вот не поверю, хоть убей, что ты сейчас взялся размышлять о творчестве поздних импрессионистов или биноме Ньютона.
Ну да, логично. И я подцепил вилкой ещё яичницы, продолжая повторять про себя слова деда про то, что от еды всяко больше пользы-то.
– Во-о-от, другое дело! – похвалил он. – А чтоб повеселее стало – музыку заведём, пожалуй.
И он потянулся к близкому подоконнику, где между горшками с геранью и столетником примостился маленький приёмничек. Из него зазвучали звуки пианино, будто в старых фильмах про пионеров. С такими как раз или на завтрак строиться, или на зарядку.
– Ты гляди-ка! Как по заказу! – вскинул в удивлении брови старик.
А весёлый женский голос запел: «Если тебе одиноко взгрустнётся, / Если в твой дом постучится беда, / Если судьба от тебя отвернётся, / Песенку эту припомни тогда.»*
Я вспомнил эту песню. Батя любил напевать её раньше. На словах про «если к другому уходит невеста – то неизвестно, кому повезло», у меня поползли брови наверх. На «если ты просто лентяй и бездельник – песенка вряд ли поможет тебе» я отложил вилку и уставился на приёмник с подозрением. Критическое мышление, проснувшееся, видимо, от сладкого чаю, отметило, что как-то странно много совпадений в одной песне для конкретно взятого жизненного участка не менее конкретно взятого Ярика. Или Славки?
– Чего напрягся-то? – веселился дед, глядя на тревожного меня.
– Странно как-то, – неопределенно кивнул я на приёмник.
– Ещё как, – ухмыльнулся он. – У тебя детей-то нет, да сестёр-братьев меньших не было, вот и странно. А то знал бы, как оно бывает, когда говоришь мальцу: «да не бери ты в голову, жизнь длинная, эта малость вообще никакого значения в ней не имеет!». А он тебе в ответ: «дурак ты неумный и не понимаешь ничего! Эту серию в этом году больше повторять не будут! Как же мне прожить ещё целый год, когда кино опять с начала начнут показывать?!». Да со слезой ещё, с му́кой!
А я вдруг вспомнил, как переживал расставание с первой своей девушкой, в девятом классе. И кричал на отца, что тот вообще ничего не понимает, что жизнь окончена! И покраснел, опустив глаза. Но тут же вскинул их обратно на приёмник.
– А откуда у тебя электричество, дядя Митя?
Лесник обернулся на подоконник, посмотрел на шнур питания, что уходил вниз, под стол. Поскрёб щетину на щеке и задумчиво предположил:
– Может быть, подземный кабель?
Меня едва не закоротило самого. Я читал ровно такую же историю, кажется, в каком-то из «Дозоров». Только вот сам я был ни разу не в книжке и в магию особо не верил. Читать любил, а так – нет.
– Всегда прокалываешься на мелочах, – кивнул грустно лесник. Но тут же прыснул и рассмеялся. Видимо, я выглядел достаточно обалдевшим, чтобы вызвать искренний весёлый смех.
– Батареи у меня на крыше, Славка, солнечные. И аккумуляторов на чердаке с десяток. Ванятка мой перестраховался – как-то пару дней дозвонится не мог, пурга как раз мела, ветряк мой поломала, а поставить обратно не дала. Вот сын и привёз мне панели, на крышу положил, да через какие-то хитрые приблуды к большим батарейкам присобачил. Так что у меня и телевизор есть, и холодильник даже. Только не люблю я их. В одном дурь одна, а в другом у харчей вкус пропадает. Веришь, нет, но как полежат пару дней в белой гладкой темноте – не могу есть, хоть тресни. Ну, то есть могу, конечно, но без радости. А без радости лучше лишний раз ничего не делать, – вдруг нахмурился он.














