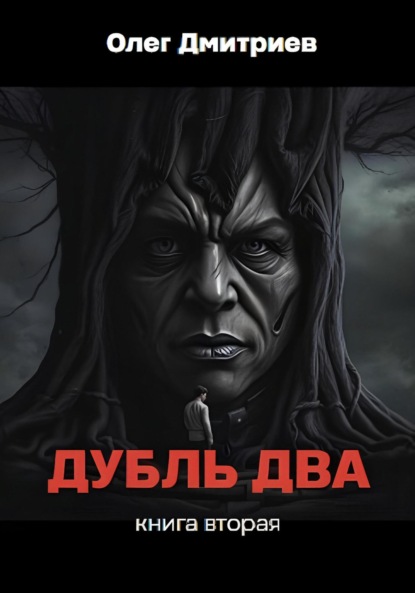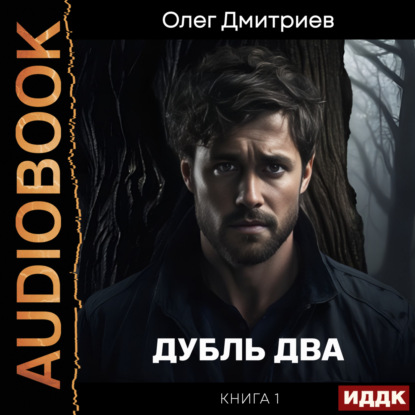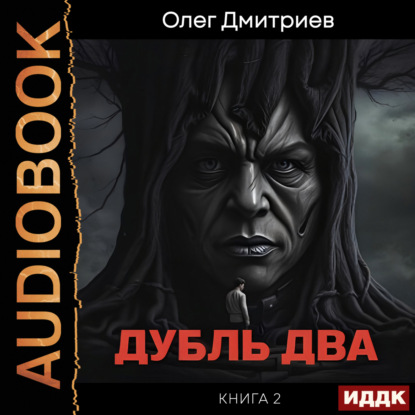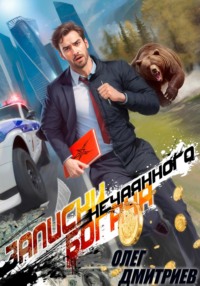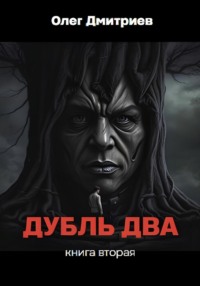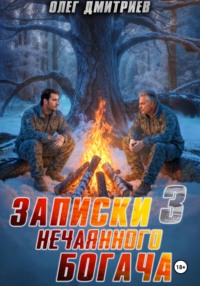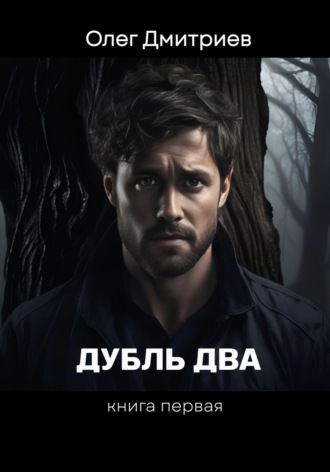
Полная версия
Дубль Два
Я на всякий случай заглянул под скатерть. На стене под столом к бревну была прикручена розетка. Обычная, квадратная, бежевая. Легран. На рынке такими торговали, помню, в соседнем павильоне. И провод к ней шёл самый обыкновенный, белый.
– Пошли, книгочей подозрительный, – хмыкнул старик, – надо перекурить это дело.
Я поднялся и потянулся следом за ним. Но сперва помог убрать со стола. Чашки сполоснул под рукомойником и передал деду – он поставил их на решетчатую сушилку в верхнем шкафчике, крашеном в светло-голубой, с прямоугольными стеклышками за широкими штапиками. Сковородку он забрал с собой на улицу.
Уселись прямо на ступеньки крыльца, между резными столбиками, покрытыми, кажется, лаком. Батя таким пол на веранаде красил, то ли палубный он, то ли яхтенный – сейчас не вспомню. Но точно запомнил, что к олифе руки липнут, а после этого лака дерево гладкое, будто стекло, становится. Эти столбики выглядели янтарными, и утреннее солнце блестело в них, как в начищенных медных трубах торжественного оркестра, молчащих перед тем, как над толпами разнесутся звуки марша.
– Надумал ли? – спросил, не поворачиваясь, лесник, лизнув лоскуток газеты, выдернув и сложив обратно в кисет лишние нитки табаку.
– Чего? – спросил я, повернувшись к нему.
– Зачем ты себе сам? – напомнил он вчерашний вопрос.
Да, казалось, в промежутках между гроздьями крупной чёрной смородины во сне я думал и об этом. И ответ казался мне вполне правильным. И в контексте происходившего последние дни нормальным.
– Да. Надумал. Я себе затем, чтобы дальше жить свою жизнь, а не чужую. И так, как я считаю нужным, а не другие. Раз в этом мире меня ничего особо не держит – значит, я ничего никому и не должен, – я смотрел на мои чёрные носки, футболку и трусы, что висели на шнурке. Ночью их совсем не разглядеть было. А вот дедовы белые майку и портянки тогда видно было отлично. Хоть и сохли они от лавки гораздо дальше.
– Тьфу ты, а так начинал хорошо, – сплюнул Алексеич, кажется, крошки табака.
– А чего не так-то? – насупился я.
– Башка у тебя не так работает. В остальном – уже лучше, конечно, – непонятно ответил тот.
– Вот смотри: родился ребёночек. Он у кого родился? – в его глазах был интерес, с которым учитель ждет правильного ответа от двоечника, такой, с лёгким недоверием.
– У мамы, – ну, биологию-то я учил.
– И-и-и?.., – выжидающе протянул дед.
– И папы, – я совсем растерялся. Причем тут «зачем я себе сам»?
– Не «и папы»! А у «мамы с папой»! В истории много было случаев, когда женщины были смелыми и отважными, когда подвиги совершали. Но это тогда, когда мужиков живых не оставалось больше, или при смерти лежали, или по порубам у врага сидели. Тогда и шли бабы в бой. Потом-то всякое случалось, конечно. Хорошего только мало, если посмотреть, – старик затянулся и замолчал, сбив мизинцем пепел на камешки, выложенные перед первой ступенькой.
– Ребёнок от любви рождаться должен. Так задумано, так заведено. Было, по крайней мере. А потом вон начали «для себя» рожать. Это к кому такая любовь, когда «для себя» рожают, скажи мне?
Видно, что тема для него была не новой и животрепещущей. У нас в старом дворе была одна тётя Нина, та тоже мимо одиноких мамаш и молодых раскрашенных девчонок молча ходить не умела.
– Ты – исконно-посконный шовинист, дядь Мить. Меня моя Катя, жена, называла, когда про детей речь заходила и место женщины, – кивнул я.
– Я – нормальный, Славка. Нор-маль-ный. Ну, в крайнем случае – анархист-индивидуалист, – козырнул он знанием кинематографа. – Хотя нет, анархисты – это те, кто любой блудняк учинить готов, лишь бы не работать. Не подходит тогда. А про эту говори лучше «бывшая».
– Почему?
– Потому что она жена бывшая. Побыла – и перестала. И твоя она тоже бывшая. Да и была ли твоей – вопрос. Своей-то точно была, судя по рассказам вчерашним, а вот твоей – вряд ли. Сдается мне, что и «Катя» она тоже бывшая, – непонятно закончил он.
– А почему? – других вопросов, видимо, от меня ждать не стоило сегодня.
– Потому что Екатерина – это на древнегреческом «вечно чистая» и «непорочная», – пояснил Алексеич, глянув на меня с сочувствием. И вниманием. Будто реакции ждал.
Я только кивнул и замолчал. Логика в словах старика была. Странная, возможно. Но точно была.
– Теперь всё больше вещи любят. Машины, – я вздрогнул на этом слове, – драгоценности, эти, мать их-то… гаджеты, во! А любить людей надо. Живых, – он снова сплюнул.
– Далай-Лама, вроде, так говорил: «людей надо любить, а вещами – пользоваться, и все беды мира из-за того, что всё наоборот», – сказал я, чтоб не сидеть молча.
– Все беды мира из-за того, что, вместо того, чтоб своим умом жить, все какую-то Багаму Маму слушают, – вскинулся дед. – И этого лысого из интернета. Нет, так-то он иногда умные вещи говорит, но в принципе это и так все знать должны.
– Интернет – вообще кошмар ужасный. Мне как Ванька эту шарманку привёз да обучил пользоваться, – Алексеич кивнул на дом, видимо, указывая на лежавший там планшет. – я сразу понял: ничего хорошего ждать нет смысла. Все знания мира в руках! Все библиотеки! Живопись, музыка, литература! А чего глядят?!
Я пожал плечами – никогда не задавался этим вопросом. Я в основном книжки читал. Ну, кино смотрел ещё.
– Срамоту всякую! Я нажал как-то на картинку одну, – дед стрельнул на меня глазом и покраснел, будто смутившись. – чуть не изломал хреноту эту. А ведь и детки смотрят! А им кажут, как коробки с новыми покупками надо открывать, да как в носу ковыряться. В лучшем случае. Нет, помяни моё слово, нету ничего путного в том, чтоб сперва ко всей информации мира доступ получить, а только потом пробовать научиться хорошее от плохого отличать!
Я только кивнул опять. Спорить с дедом не было ни желания, ни смысла. Потому что сам я думал точно так же. Ребёнок, воспитанный на рекламе, больше принадлежит телевизору, чем маме с папой.
– Ты прости, Славка, что я так разошёлся, – чуть виновато продолжал старик, – но это ж позор какой-то? Не должно так быть, не ладно это. Чтоб детей чужие люди воспитывали втайне от живых родителей. Чтоб люди кровь Земли пили, а не своей её поили. Или вон чтоб молодые здоровые парни по соснам лазили…
– А с кровью Земли что не так? – спросил я, пытаясь отодвинуть подальше картинку с гостеприимной сосновой веткой.
– А ты глянь на тех, кто недрами торгует! В них же людского-человеческого меньше, чем у комара писька! – буркнул лесник. И тоже не сказать, чтоб сильно против правды попёр.
– Есть, Славка, те, кто на людях деньги зарабатывает. Большие, страшно большие. Кто готов всю Землю наизнанку вывернуть, чтоб карман себе набить. Счастья то им не приносит, да оно и не нужно им. У них всё шиворот-навыворот, – и странный старик замолчал. Надолго.
– Когда-то давно… Очень давно, – начал он, когда я уж хотел пойти барахло проверить – высохло ли, – люди с природой и миром в ладу жили. Не могли иначе – перемёрли бы. Брали сколь надо, отдавали взятое, что при жизни, что после неё. А потом паскудство началось.
Непонятный дядя Митя прервался, чтобы свернуть ещё одну самокрутку. Он, может, и давно один тут жил. Может, и не вполне в себе был. Но что-то заставляло слушать его слова с очень пристальным вниманием. И спорить аргументированно пока было не с чем.
– Народу в мире много стало. Лишку даже, – он смотрел на Солнце, что почти полностью поднялось над соснами за забором. – И стали некоторые из них старые знания не во благо пользовать, а наоборот. И тоже сперва себя успокаивали, что раз оно конкретно им в пользу – стало быть, доброе дело делают. И пошла канитель с тем, чтоб как можно больше себе подобных себе же и подчинить. Начали новых Богов выдумывать, таких же подлых, чтоб себя оправдать. Начали детей воспитывать в страхе, а не в любви. Тех, что из зашуганных вырастают, проще же к чему надо принудить? Вот. Те – своих детей так же растить взялись. Давно, очень давно это было, – повторил он с невыразимой тоской в голосе.
– Привыкли все за тысячи лет, что по-другому и быть не может. Ну, раз-два в пару поколений новые какие-нибудь понятки вводят, чтоб не расслаблялся народишко. Ипотеки, вон, выдумали. Земли в мире – спиной ешь, но нет: надо именно вот тут купить себе скворечник, за который потом ещё детям твоим расплачиваться. Зато к Месту Силы, которое «никогда не спит», поближе. Никогда не спит, Славка, только Зло. Да дурь ещё, пожалуй.
– Натурфилософия, – с умным видом протянул я.
–Хоть горшком назови, – кивнул дядя Митя. А я вскинул на него глаза с удивлением.
Читал как-то одну книжку интересную. Профессор один написал, доктор психологических наук, с Магадана родом, кажется. Он там впервые на моей памяти совместил реальность с психологией, историей и фэнтези настолько, что и зазора не разглядишь. Там крупно было написано, что всё рассказанное на страницах – сугубо плод воображения и размышлений автора. Но тьма народу уверяла, что главного героя знает и видела лично. Социальный эксперимент Владимиру Павловичу удался блестяще. Вот тот самый его главный герой точно так и говорил: «хоть горшком назови». Вроде бы.
– Пойдем, Славка, покажу кой-чего, – поднимаясь, старик задержал дыхание и сморщился, словно у него что-то резко заболело.
Мы пошли к тому странному сооружению, которое не баня. Дед по пути пощупал бельё, портянки оставил, а майку снял, сложил и убрал в карман куртки. Открыл дверь, запертую на навесной замок странного старинного вида из какого-то тёмного матового металла. И шагнул внутрь, склонив голову.
Я пригнулся и зашёл следом. Глаза после яркого утреннего солнца сразу забастовали, но, когда чуть проморгался, стали проявляться сперва контуры, а потом и сами предметы. И я резко отшагнул назад. И упёрся спиной в дверь. Она была закрыта, хотя я её не трогал, и снаружи не было ни ветра, ни человека.
***
* Гелена Великанова – Эй, рулатэ: https://music.yandex.ru/album/7624779/track/53368926
Глава 4. Возможность выбора
В голове закрутились кадры из фильмов ужасов и сцены из книг, что читала Катя. То есть бывшая. Там, где никому не известный дурачок приезжает в незнакомый город, а потом вся полиция первый сезон пытается собрать его из неожиданных запчастей, разбросанных по вверенной территории хаотично. А второй и последующие сезоны ищет талантливого раскройщика неизвестных дурачков и пытается понять, что же им двигало и какой месседж он хотел передать своим оригинальным перформансом. Нет, я не люблю современный криминально-мистический кинематограф, это точно. Но тогда думалось не об этом.
Посередине овина или гумна стоял пень в два обхвата. Из него торчал другой, в один обхват. Из другого – третий. Всего странная этажерка насчитывала, кажется, шесть ярусов, каждый сантиметров по пятнадцать высотой. А из верхнего пенька торчал какой-то прутик с несколькими листиками на тонких веточках. Вся эта странная конструкция была заляпана потёками и пятнами такого тревожного вида, что очень не хотелось даже пробовать выяснять – кто, чем и зачем поливал тут это деревце. Именно эта картина и заставила меня сделать шаг назад и напороться спиной на закрытую дверь. Я обернулся, поискал на ней ручку, не нашёл и приналёг плечом для пробы. Дверное полотно стояло, как влитое.
– Не открывай, он сквозняков не любит, – послышался за спиной голос лесника. А мне стало страшно. Очень.
– Кто? – хрипло выдохнул я, обернувшись с неожиданной даже для себя скоростью. И ловкостью, пожалуй.
– Наш родовой Дуб, – в голосе Алексеича звучала искренняя любовь и торжественная гордость. Стало ещё страшнее.
– Ты, Славка, главное – не бойся! – продолжил дядя Митя. Но это не помогло никак. Совсем. Вовсе. Хуже только стало.
– Давай, как раньше говорили, сядем рядком, да поговорим мирком. Я тебе не буду предлагать рядом садиться, от тебя ужасом и паникой шибает аж досюда. Там стой. Ну, или сядь, если захочешь. Я только самое главное расскажу. Захочешь что-то узнать – спрашивай.
И старик, которого я знал неполные сутки и третий раз видел без фуражки со сломанным в двух местах козырьком, примостился на лавку, что стояла у стены напротив пня. Хотя постройка была круглая, и тут всё, включая меня, было у стены напротив пня. Дед погладил левой рукой стену за собой, не глядя, привычным движением. Под сводами конусообразной крыши что-то зашелестело чуть слышно – и с нескольких точек во мрак овина проникли солнечные лучи. Тонкие, с палец. Лесник что-то сделал – и вдруг узкие пучки света, падавшие прямо на пол, начали подниматься, скользя по стенам. Наверное, если бы мы находились во взлетающем самолёте, я бы смог как-то понять такое поведение солнечных лучей. Запертый в тёмном гумне – не мог ни как.
Поднявшись на уровень, где заканчивался сруб и начинались стропила, или, вернее, переводы – крепкие бревна, что сцепляли-сплачивали окружность стены сверху, лучи закружились, заметались, дрожа и дёргаясь. Но совсем скоро превратились в сплошное ярко-жёлтое колесо. Вернее, обод от колеса. Он был уже с руку толщиной.
Дед ещё куда-то нажал – и убрал руку от стены. А окружность будто разрезали на части, как пиццу – и получившиеся сектора стали поднимать острые вершины к самому центру крыши. Оттуда прямо на прутик с листьями ударил луч света толщиной, пожалуй, с меня. И я увидел, как деревце, саженец или чего там торчало в этой странной конструкции сверху, на глазах развернуло листочки навстречу солнцу и теплу. Это смотрелось одновременно естественно и мило, но в то же самое время совершенно нереально и от того пугающе. Ни пляшущие лучи, увеличивающиеся в диаметре, ни шевелящиеся, будто живые и разумные, листья объяснить мне было нечем. Я посмотрел на деда. Тот не сводил глаз с прутика, что нежился в солнечном столбе, и выглядел настолько счастливым, будто смотрел на любимого единственного карапуза-внука, что строил песочный замок на ласковом морском побережье, где тёплая вода, доброе солнышко, полный пансион и никаких проблем вовсе.
– Он с полчаса где-то завтракать будет. Начну рассказывать, если ты не против? – повернулся ко мне дядя Митя, с заметным усилием отведя глаза от деревца.
Я был против шевелящихся деревьев. И солнечных кругов, возникавших в сараях из ничего. Против «рассказывать» – ровным счетом ничего не имел. Что и постарался лицом показать Алексеичу. Слова как–то не подбирались.
Давным-давно, когда редкие люди, населявшие Землю, ещё жили по одним с ней законам и правилам, вся земная твердь делилась на участки разного размера – доли или уделы. Их так потом стали называть люди. В центре каждой доли росло свое главное дерево. От него расходились лучами и кругами его дети и внуки. Под их ногами подрастали правнуки и копошилась прочая мелкая дальняя родня – кусты, травы, грибы. На них кормились звери и птицы. Так длилось долго, очень долго. Люди поперву тоже жили в мире и ладу с соседями. Потом только начали откармливаться и разрастаться так, что одной доли роду перестало хватать. И пошёл род на род. Вырубить главное дерево соседа почиталось за великий подвиг.
Великие исполины, многие из которых пережили не один ледниковый период, срубались, падая с подсечённых корней и ломая ветвями поросль младшей родни и соседей. Деловитые человечки расчленяли тех, кто помнил Землю новой и чистой, чтобы обогреть холодными ночами свои норы и пещеры. Потом стали ладить из мёртвых деревьев дома, что защищали их от ветров и морозов. С тем, чтобы пристроить что-нибудь себе на пользу, у человечества проблем не было никогда. Ум людской – большой подлец, находил оправдания любым, даже самым низким поступкам.
Толщи льда наступали и отступали. Поднимались и опускались воды мирового океана, то обнажая, то снова пряча тайные тропы между континентами. Которые, в свою очередь, тоже сходились и расходились. Но всё шло своим чередом бесконечно долго. Пока не напоролось на голую бесхвостую обезъяну, которой «надо!». Надо корону из перьев вон той птицы – они яркие. Надо шкуру вон того зверя – она тёплая. Надо мясо вон того – он медленный, но вкусный. А это, большое, что торчит снизу вверх, надо уронить. Потому что слишком большое и слишком торчит. Пугает.
Когда человечки научились головами не только жрать – им пробовали объяснить, как устроен мир изначально, и почему баланс, хрупкий и едва достижимый, так важен. Некоторые поняли. Не сразу, конечно. Потребовалось ещё один-два раза одеть Землю в ледяные латы, вымораживая паразитов. И показывая тем, кто мог думать, что у любого терпения есть предел. И снова некоторое время стало ладно и мирно. Люди берегли свои доли-наделы, заботились и охраняли их жителей, от самого старшего, до неразумных, но всё равно живых младших родичей и соседей. Если не видеть смысла в том, чтобы иметь больше, чем тебе нужно – счастье становится достижимым. Но счастливый век тянулся недолго.
Племена, жившие каждый под сенью своих родовых деревьев, которых из поколение в поколение привыкли считать Богами, держались Ряда и Покона. Пока степи и пустыни, возникшие на месте старых вырубок, не стали теснить один из родов с их надела. Но дома, выстроенные из росших в тех краях деревьев, были такими крепкими и красивыми, что отказаться от их постройки люди не могли. И сводили родовой лес, пока главное дерево не начало чахнуть. И тогда племя, что изводило своего Бога своей же жадностью, отняло чужую долю. Вырезав под корень соседей. Всех. И тех, что стояли на одной ноге, крепко держась за землю корнями. И тех, кто ходил по ней на двух. И тех, кто только начинал ползать на четырёх. И сделали из своего обезумевшего полумертвого Бога залитую кровью колыбель первородного зла.
Как уж вышло так, что одно из предвечных деревьев решило помочь своим человечкам поработить или уничтожить остальных, живших дальше – никто не знал. Но, видимо, раз есть ум – значит, есть с чего можно сойти. Или из чего выжить. И человечки, что копошились вокруг, стали первыми рабами нового порядка. А уже они, по образу и подобию, как водится, принялись подчинять себе окружавших соседей. Старая как мир, а то и ещё старше, схема: убить, опозорить или высмеять чужого Бога, чтобы забрать его силу и ресурсы. Как в компьютерных стратегиях, что так нравились мне раньше, только предельно, до отвращения, грубо и откровенно. Ничего лишнего.
Деревьев, что составляли основу, ось, центр жизни планеты, становилось всё меньше. Человечки играли в разных Богов. Разные Боги играли в человечков. И проигрывали. Потому что мелких двуногих становилось больше с каждой эпохой. И они, как чума, как лесной пожар, оставляли за собой безжизненные пустыни. Научились осушать болота. Поворачивать вспять реки, что текли своим путём миллионы лет. Добывать кровь Земли. А потом и есть её. Чёрное Дерево научило рабов питаться чем угодно, даже этим. Будто могильные черви выползли на поверхность. Сейчас почти каждый ест чипсы, жуёт жвачку и фаст-фуд, пользуется парфюмом и лечится антибиотиками. И в голову никому не приходит то, что олестра, паприн, фенол, нефтеполимерные смолы и основные яркие, так любимые детишками, красители – это нефть. Сырая нефть.
Доли и наделы присоединялись к пятну власти Чёрного Дерева, что язвой расползалось по Земле. Сперва это было очевидно: пустыня, возникшая за несколько поколений на месте зеленых лесов – не та вещь, которую можно легко спрятать. И за гнев Богов её выдать получалось не всегда. Слуги сумасшедшего Бога научились подсаживать-прививать черенки к живым деревьям других племён и стран. Злобные симбионты прилетели не из космоса.
Свободных первых разумных жителей планеты теперь можно было практически пересчитать по пальцам. Часть из них хоронилась в нехоженых местах, куда не могли добраться даже специально подготовленные десанты. Чаще всего потому, что там не было ничего для них выгодного и нужного, кроме тех самых изолированных, лишённых последователей и помощников, старых деревьев. Их тайные уголки были известны или примерно известны, но «прививку» откладывали до поры. Хуже всего было тем, кого подчинила злая воля, привитая двуногими. Память никуда не уходила. Люди, веками поклонявшиеся древним деревьям на разных континентах и островах даже не замечали, что из поколения в поколение чуть изменялись просьбы и правила, советы и сны, что навевали старые Боги. Потому что говорили уже не они. Да, окна Овертона придумал тоже не Джозеф Овертон.
Я сел на пол ещё на словах о ледниковых периодах, которых, оказывается, было несколько. Дальше просто слушал. Хотя, нет, не просто. Разинув рот, слушал рассказ лесника, тянувшийся плавно и неторопливо, будто какая-то кочевая песня, старая, как мир. Или колыбельная. Или отходная. Поверить в то, что где-то растёт Чёрное Дерево, которому подчиняются люди, да не из последних, судя по всему, было трудно. Но то, что дед твёрдо уверен в том, что говорит – было очевидно. А ещё то, что прутик будто прислушивался к его рассказу. И на том месте, где шла речь про страшную прививку зла – заметно вздрогнул. Прутик. Маленькое деревце. В закрытом помещении, где нет сквозняков. И мышц, чтобы заставить шевелиться ветки, как я помнил по школьной программе, у дерева быть не могло. Поэтому вздрогнул тоже.
Горько звучали слова о порабощённых старых Богах. Тоскливо. И без зла – чистая констатация факта, как у классика: «мы рубим – гнутся шведы». Только наоборот. А меня всё сильнее заботил вчерашний вопрос: «зачем я тебе, дядь Мить?». И ещё было по-прежнему страшновато. А ну как он сейчас и меня деревцу этому хилому пожертвует? Как там было в начале? Колыбель первородного зла? Вот-вот.
Старик замолчал. Поднял левую руку и снова пошарил по стене за собой. Опять не глядя. Столб света посреди овина истончился и исчез буквально за пару секунд. Видимо, перекрылись отверстия, впускавшие свет снаружи. Это если пытаться мыслить логически. К чему ситуация располагала слабо, мягко говоря.
– Вот такие дела, Славка, – вздохнул он.
– Ага, – поддержал я. Промолчать не получилось.
– Предлагаю тебе выбор, – начал он, повернув голову ко мне, опять будто бы с трудом оторвавшись от деревца, что снова повернуло листья кончиками вниз.
А я напрягся ещё сильнее, хотя, казалось бы, куда уж ещё? Кино все смотрели, книжки тоже читали. Варианты «или ты служишь злу рабом, или компостом» казались очевидными. Становиться перегноем как-то не хотелось. Сегодня – не хотелось.
– Если наш Дуб тебя признает – я расскажу тебе остальное, – выдохнул дед.
– А если не признает? – этот момент интересовал меня значительно сильнее.
– А если нет – провожу до того самого синего камня, где взял, и укажу, как к дороге выйти. Сюда ты точно больше добраться не сможешь, без меня-то. Ну, может, вспомнишь пару раз странного старого дурня-лесника, – он пожал плечами. Вроде не врал.
– А как я узнаю, что меня признали?
– Почуешь. Это словами передать трудно, нету слов-то таких. Звуками люди гораздо позже говорить научились. Когда забыли, как можно одними мыслями переговариваться. Ты вот думал, что злу можно пользу приносить, став или слугой, или навозом. Ну, как-то так. А добру слугой быть нельзя. Когда ты добро делаешь – ты сам им становишься. Так-то.
Я остолбенел. Внешне это вряд ли было заметно, потому что я с места не сходил и не двигался всё это время. Но тут прямо будто внутри всё замерло.
– Ты мысли читать умеешь? – подозрительно глянул я на Алексеича.
– И не только читать. Могу подсказывать. Могу отгонять. Много чего могу. Только мало нас, таких-то. Да с каждым годом всё меньше становится. По естественным причинам… И по противоестественным – тоже, – вздохнул он.
Вопрос «как понять, что странный прутик меня признал, что бы это ни означало» оставался без ответа.
– «Как-как?», – раздраженно буркнул лесник, – головой понять. Сердцем, душой ощутить. Как в трёхмерном измерении про пятое рассказать?
А я ещё раз вскинулся – про сравнения измерений в той книжке у магаданского социолога тоже было.
– Вот дался тебе тот шаман! Хотя да, читал я, много толкового. Ты лучше скажи мне, ты вот когда к домофону ключ прикладываешь – как вы все трое, Славка, ключ и дверь, понимаете, что тебе можно войти? – прищурился он на меня.
– Ну-у-у, – протянул я растерянно. Мысль о механике данного процесса меня как-то никогда не посещала до сегодняшнего дня.
– Ну-у-у вот Дуб так же примерно, плюс-минус, понимает. Он – дверь. Я – ключ. Ты – Славка. Если ты именно за этой дверью живешь, и у тебя есть ключ – добро пожаловать.
Я задумался, каким местом нужно приложить лесника к деревцу, чтоб раздалось заветное пиликанье. Мозг изо всех сил давал понять, что ему очень не хватает времени не то, что для анализа новой информации, но даже для её учёта. Если не разложить всё по полочкам – потом и не вспомню. Видимо, какая-то защитная опция здравого смысла, который планировал сохранить здравие.
– Пункция нужна, спинно-мозговая, ага, – хищно оскалился дед. Но мне страшнее уже не стало. Нечем было воспринимать и оценивать новые вводные.