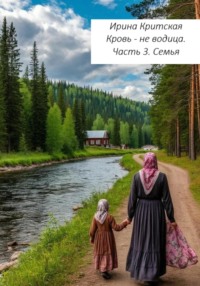Полная версия
Дорога в любовь
Корова нервно лягнула ногой, повернула башку, угрожающе посмотрела на меня и рыкнула.
Твердое образование, упирающееся мне в плечо исчезло и похолодело. Я дернула посильнее. Потом еще разок- как следует!
Тут явно что-то произошло. Потому что загремело ведро, из под моей задницы выскользнула скамейка, я успела вскочить на ноги, но предательские каблуки подломились, и я со всего маху шарахнулась на спину, расставив ноги. Шикарные сабо взметнулись и одно из них, блеснув красным маком, зафигачило Писте по лбу, прямо острым каблуком.
Озверелая скотина взвилась, как хороший конь, и передними ногами долбанула в стену, сбив огромное тяжелое ярмо, которое точно вписавшись, наделось на ее дурной безрогий котелок, оглоушив не по детски. Корова не удержалась на задних ногах и ляпнулась всей жопой на пол, подбив по дороге в конец офигевшего мачо.
Мачо, взмахнул крыльями, попытался взлететь, но рожденный ползать летать не может, и он закончил свой полет в здоровенной круглой куче свежего коровьего дерьма, распластавшись посреди него животом! Брызги пулеметной очередью расстреляли мое белое платье, изысканный шарф, параллельно залепив мне в рот, и заодно добили полумертвую Писту.
".... в рот, ......, тупая! Какого ты, ты – дебилка, надрочила своими .... ручищами? В заднице их надо было держать, драть тебя некому, говно поганое"– заревело на весь сарай каким то тонким, бабьим голоcом, эхом отдаваясь в высоких деревянных сводах. "Какого .... ты не сказала, что ни … доить не можешь, а только член терзать, дура записяная".
Я удивленно озиралась ища то несчастное создание, к которому были обращены эти страшные и непонятные слова. Никого вокруг не было кроме меня и несчастной Писты, но она не слушала, изо всех сил старалась подняться и скользя в собственных кругляшах…
Мой бледный изысканный рыцарь, оказался ни разу не рыцарем, а дерьмом собачим. Я грустно брела по двору, спотыкаясь о подол вконец замурзанного платья. И тут открылась калитка.
"Эй, хозяйка, корову забирай. Давай дои скорее, молока седни будет, ооой! Да и тёлка уж соскучилась без мамки, гыыы".
В ворота тяжелой вальяжной поступью, волоча полные, налитые, тугие, свисающие почти до земли сиськи под сытым, толстым животом, чуть поводя бархатными боками входила корова. Она грустно и жалостливо посмотрела на меня влажными, добрыми глазами и приветливо взмахнула огромными ресницами… Остро запахло молоком…
Новогодняя история
Глава 1. ШарПоехала нога, да так неудачно, что Петрова, вывернув бедро пробежала пару метров, семеня, как старая курица, но удержалась, не загремела в серую, исплёванную жижу, в которую превратился лёгкий, утренний снежок. Однако длинная пола новой, светло-серой дублёнки всё же плюхнулась в грязную лужицу, и шикарный мех оторочки противно набряк какой-то скользкой дрянью. Муж – маленький, похожий на хорька мужчинка, увенчанный сверху широкополой, идиотской шляпой (ковбой фигов), стоял чуть позади и с его любимым равнодушно-клоунским прищуром смотрел, как жена корячится, пытаясь достать из сумки платок. Петровой жутко мешал пакет с торчащими желтыми когтистыми лапами какого-то динозавра, которого она решила запечь к приходу гостей, и съезжающая на глаза шапка с идиотскими белыми ушками.
– Какого ляда она себе эту шапку купила? Всё молодится, дура.
Петров сплюнул окурок в снег, желчно ухмыльнулся и потёр бок, в котором уже неделю ворочалось будто что-то острое и периодически кололо тупой, противной иглой. «Сала обожрался», – злобно подумал он, – «Говорил дуре – готовь диетическое. Не, что побыстрее сляпать норовит. Фря!»
Муж Петровой и в молодости-то не отличался особой любвеобильностью, а сейчас, когда в паспорте цифры года рождения стали напоминать исторические даты прошедших войн, совсем обленился, заплыл жирком, и любовь-секс воспринимал только, как раздражающую помеху в детективном сериале. Вроде рекламы. Пока они трахаются там, можно пописать сходить…Или чайку…
Петрова, наконец, оттерла мех, выпрямилась, поудобнее перехватила своего динозавра, норовящего зацепить кривым когтем пушистый дубленкин манжет.
«Зачем я на рынок-то её напялила, дубленку?» – ленивые мысли медленно ползли в голове и таяли, не хуже этого сегодняшнего, волгло-грязного снега, – «Лучше б на работу завтра надела. Теперь вот…пятно небось останется. Правду муж говорит: "Синдром престарелой снегурочки". Ну и пусть, зато капюшон с мехом, манжетики, подол даже. Давно ж хотела такую. С юности. А…ладно».
Она, не обращая внимания на тоскливо толкущегося сзади ковбоя, сделала ещё пару-тройку незначительных покупок, сунула пакеты ему в руки и бросила: «Коль, ты иди к машине. Мне тут колготки надо купить, вооон в том магазинчике. Я быстро. Мы ёлку, кстати, будем ставить? Пора, три дня осталось».
Петрова всегда испытывала странный трепет в предвкушении Нового года. Скажем так, последние лет десять, она испытывала такое чувство вообще только один раз в году. Именно в тот момент, когда настоящая, живая, покрытая легким инеем лесная красавица вдруг начинала оттаивать в тепле и пахнуть так, что кружилась голова, у Петровой внутри что-то сладко срывалось, тоненько лопалось и останавливалось на мгновение. Тогда ей казалось, что она вдруг резко уменьшалась в росте, маленькие ножки несли её быстро и легко, крошечные ручки разгребали ветки, и она совала внутрь пахучего царства голову, замирая от колючих прикосновений. Это длилось всего пару мгновений, но именно из-за них, Петрова ежегодно тащила ёлку сама, устанавливала, выдерживая нудь мужниных выступлений по поводу своей дури, и, под брюзгливое ворчание о застревающих в ковре иголках, развешивала игрушки. Те. Ещё бабушкины, настоящие, почти живые. Она гладила зайчиков, подмигивала совятам, и становилась ненадолго не Петровой, а крохотуличкой-свистулечкой. Так звал её дед…
– Да пошла ты, со своей ёлкой! Достала уже. Иди вон, штаны свои покупай, Снегурка хренова. Да побыстрей, жрать давно пора.
Петрова даже не сразу поняла, что эта тирада относится к ней, вынырнула из своих мыслей и недоумевающе посмотрела на, говорящий эти слова, рот. Рот мужа всегда ей напоминал куриную гузку, когда она торчит их жирного супа. И, вроде, даже шевелится.
Равнодушно развернулась и пошла в магазинчик, осторожно ступая по грязной снежной хляби замызганного рынка. Она шла быстро, стараясь поменьше вдыхать. Кто-то продавал тухлую квашеную капусту и амбре заполонило всё рыночное пространство, вызывая непреодолимое желание помереть.
В тесном магазинчике было душно, спертый воздух пах плесенью и пластмассой. Это был даже не магазинчик, а, скорее ларёк, плотно набитый всякой всячиной, необходимой в хозяйстве. Там, среди одноразовых стаканчиков и ломких, словно сухие ветки тоже одноразовых вилок и ножей, можно было обнаружить чашку такого тончайшего фарфора, что сквозь него просвечивала тусклая лампа, а мир сквозь этот просвет казался зыбким и сказочным. Или круто выгнутый нож, с тяжелой литой ручкой, который плотно и удобно ложился в ладонь, и отливал, ну точно настоящим золотом.
Петрова обожала копаться в этом богатстве, делая вид, что выбирает всего-то щетку для обуви, ну или колготки, как сегодня, но… хозяйка магазинчика всё понимала. Она тихонько сидела в смутной глубине своего царства, молчала и тихонько кивала головой. Глаза у неё отливали в мутном, еле проникающем через грязные стекла уличном свете, почему-то желтовато-красной медью, а черный ком волос, с торчащими в разные стороны прядями, поднятый на самый затылок и скреплённый витой, тяжёлой заколкой с перьями делал её похожей на большую сказочную птицу.
Впрочем, сегодня хозяйки не было. За прилавком вообще никого не было, поэтому Петрова, неуверенно подтащив большую коробку с колготками, начала в ней было рыться самостоятельно. Но тут, в поле зрения попал он! Шар!
Нельзя сказать, чтоб шар был очень большим. Нет, он был среднего размера, тёмный, туманный, такой бывает вода в лесном пруду, поздним летом, когда жаркий день клонится к вечеру. Шар лежал в ворохе перепутанной мишуры, в дальнем углу длинного прилавка, между коробкой с мужскими носками и искусственными ёлочными лапами. Он поблёскивал так загадочно и так к себе тянул, что Петрова, разом забыв о колготках и голодном ковбое, который, наверняка уже сожрал собственную шляпу, осторожно протянула руку. Шар, как будто сам по себе перекатился ей на ладонь. На ощупь он был теплым и слегка вибрировал, нежно-нежно, практически не ощутимо. Или это казалось? С чего бы простому, стеклянному ёлочному шарику дрыгаться… Глупость.
– Да вы берите, не стесняйтесь. Что вы испугались? Он недорогой совсем, так, копейки, чисто условная цена. А вам я, вообще даром отдам.
От неожиданности Петрова пряданула было назад, но чёртов подол опять попал под каблук и она, совершив пируэт на скользком полузамёрзшем полу ларька, с трудом удержалась, вцепившись в развешанные гирляндами разноцветные китайские шарфы. Потом, приняв приличный, слегка отстраненный вид английской принцессы по крови, величаво поправила подол, этак, двумя пальчиками и вернулась к прилавку.
Продавец был новый. Высокий мужчина, с аккуратно подстриженной седоватой бородкой, смотрел на Петрову пристально, но ласково. Из-под мягкого, велюрового берета, какие носили раньше художники (эти знания Петрова почерпнула из глянцевых альбомов племянницы, обожающей живопись) были видны красивые волны длинных волос, тоже седых. Волосы явно были забраны в хвост, и Петрову кольнула неприятная мысль. "Хорошо, мужа нет, а то сейчас бы обязательно тявкнул какую-нибудь гадость. Как это… гомофобия, вроде. Во-во. Вечно он…"
"Я и не боюсь!"– вслух сказала Петрова, вернее пропищала, потому что, вдруг осипла,– "С чего бы это? Я просто поскользнулась. Полы надо протирать!"
Мужчина молчал и смотрел. Смотрел так странно, что Петрова вдруг почувствовала то, давно забытое чувство, где-то между сердцем и пупком, сладкое, тянущее. От которого хотелось покраснеть и хихикнуть, и, спрятавшись за сумкой, быстро накрасить губы ярко-красной сочной помадой, оставляющей во рту фруктово-химический привкус. Но она выдержала, не хихикнула, и сама не зная зачем, опять взяла шар.
– Ты смотри не на него. Ты смотри в него! Вглубь. Отринь окружающее, он сам поможет тебе…
Голос мужчины звучал откуда-то сверху, томяще-нежно, чуть хрипло, тихо. Петровой показалось, что его и нет совсем, а стены ларька, увешанные барахлом, стали растворяться, мерцать, таять. И вроде пошёл легкий, невесомый снежок… Потянуло прохладой, свежий ветерок разметал душные волны тепла от обогревателя и откуда-то зазвучала музыка.
– Какая же…не пойму…
Петрова напряженно пыталась вспомнить знакомую мелодию. Потом плюнула, поеяввсматриваясь в шар. Там, в выпуклом стекле, она видела белесую физиономию с белыми острыми поросячьими ушами и огромным уродливым носом. Под глазами этой свинки синели неприятно-дряблые пятна, а под подбородком намечался явный мешок. Свинка спрятала подбородок в пушистый воротник, и посильнее выпучила глаза.
И вдруг, стекло провалилось. Вернее, оно втянулось внутрь, и на дне свинцовой стеклянной воронки закружила метель.
Глава 2. ЛюбушкаПетрова вдруг почувствовала, что не может оторвать взгляд. Шар из блестящей выпуклости превратился в изогнутый, скользкий край воронки, в самоё начало, раструб, ведущий в сияющий, засыпанный снегом кратер. Бесконечность метели затягивала, кружила, и Петровой, вдруг показалось, что можно сесть на самый край, свесив ноги. А потом – взять – и съехать вниз. Как в детстве, на салазках, бесстрашно, не думая о высоте крутой горки. Что она и сделала – уселась, согнула ноги в коленях, опустив их в бездну, закрыла глаза и оттолкнулась.
Откуда-то взявшийся в недрах её давно прокуренной глотки раздирающий визг слился с воем ветра и снега, уши заложило до боли и хлопанья в носу. Петрова даже не думала, что она может так визжать. Она вообще орала по-настоящему только пару раз в жизни. Один раз, когда её цапнула за палец пчела на дедовой пасеке, а второй – когда здоровая, как корова, Нинка из соседней группы наступила каблуком на пудреницу, выпавшую из петровской сумки. Пудреница треснула пополам, брызнула меловым порошком в разные стороны, обсыпав Нинкины толстые лапы. Петрова завизжала, как поросёнок, потому что только неделю назад отвалила за эту тоненькую розовую коробочку всю месячную стипендию и теперь лопала один хлеб.
***
Голос срывался, хрипел, но пропасть всё не кончалась. По щекам хлестали колючие снежинки, ветром рвало биозавивку, которую вчера налепила ей таджичка-парикмахерша из салона на углу, с гордым названием "Кудряшка". Рыжие лохмы Петровой превраиились в туго сбитый колтун, нераздираемый даже граблевидной пластмассовой расческой. Правда и денег парикмахерша взяла немного…
Петрова продолжала визжать, но, на удивление, это не мешало ей думать. Мысли проносились в голове со скоростью курьерского поезда, при этом были чёткими и ясными. И тут, вдруг, запахло свежевыпеченным хлебом и парным молоком. Одновременно и резко и нежно, если так, конечно бывает. А визг, хриплый и срывающийся в кашель, вдруг зазвенел колокольчиком. Воронка кончилась, мир вокруг взорвался янтарным солнечным светом, и Петрова плюхнулась со всего маху на попу, совершенно её не отбив.
Ароматы были такими сильными, незнакомыми, или, вернее, почти незнакомыми. Когда-то, очень давно, может даже и не в этой жизни, она уже ощущала пряный запах ромашек, нагретых солнцем, смешанный с медовыми волнами отцветающего клевера и сурепки. Сквозь ресницы пробивались лучи, они пригревали озябший на ветру, мокрый нос, а по руке кто-то полз, смешно и щекотно перебирая тоненькими лапками. Шёлковое прикосновение муравы, которое она чувствовала через лёгкую невесомую ткань (куда делась дублёнка?) вдруг неприятно сменилось ощущением холода и влаги.
– Оой, дева. Ты ж посиди, не вставай, я помогу. Как ж ты? Оступилася, никак? Ан и коромыслу сронила. Давай, родненька, Любава моя, подымайсь.
Петрова резко открыла глаза. Она сидела прямо на траве, в луже разлитой воды и не понимала, что это с ней. Сероглазый парень в белой рубахе навыпуск пытался её поднять, но сапожки из мягкой кожи, невесть каким чудом оказавшиеся у неё на ногах, были очень скользкими и разъезжались по мокрой мураве. Длинные золотистые волосы мужчины, прихваченные ремешком на лбу, спадали вниз, мешали и пахли ладаном. Руки у него были горячие, он обхватил Петрову за талию и, наконец, поднял с земли. Огладил бока, так гладят породистую лошадь, провел рукой по животу, плотно обтянутому кремовым балахоном, расшитым красными маками по кромке. Петрова вдруг почувствовала, как непривычно огромен её живот, странно-выпукл, полон. Таким он у неё не был даже в тот год, когда она неожиданно растолстела, а потом долго сгоняла жиры, дрыгая ногами под руководством противной мужиковатой тренерши.
Она посмотрела парню в глаза, и там, в глубине черных зрачков увидела отражение изящной рыжеволосой головки в легком белом платочке. Любава (красивое имя-то какое у меня, я уж и забыла – пронеслось неё в голове) мотнула головой, потому что-то непривычно тянуло затылок. Коса! Толстая, с выбивающимися по всей длине кучеряшками, точно такая, как она обрезала в… Какой это был год? Не помнила Люба! Сто тысяч лет назад это было!
Парень, как будто услышал её мысли, вытянул тяжеленную косу из-за плеча и уложил ей на грудь, ласково поправив.
– Домой пошли, Люба моя. Уж темно. Вечерять будем.
Любава, не веря, что она это делает, шагнула вперед, тяжело ступая из-за набрякшего живота. Потом оперлась на мускулистую руку и послушно побрела по тоненькой тропиночке к беленой избе, вокруг которой сияла разноцветная душистая лужайка.
***
– Наверное, это счастье. А что же ещё? Больше просто нечему.
Любушка сидела на длинной деревянной лавке и глупо улыбалась. Она только что отмутузила здоровенный ком пахучего, сероватого теста, и сунула его в печь, неожиданно ловко шуруя отполированной штукой, похожей на лопату. Туда же был с не меньшей ловкостью отправлен и чугунный горшок с пшеном, залитым ледяной водой из колодца. Каша уже была готова и Люба, с непонятным для себя наслаждением, подцепила чугунок ухватом и, вздернув круглым животом, шарахнула чугунок на стол. Бросила желтый шматок зернистого масла и смотрела, как быстро он таял. Потом не удержалась, пальцем зачерпнула растаявшую массу, быстро глянула по сторонам и сунула её в рот.
– Господи. Да чтоб я так масло ела. Что это со мной?
Люба хотела было принять привычный насупленный вид, но губы разъезжались, как у дурочки, не слушались. А сквозь рыжие ресницы пробивался теплый солнечный лучик.
***
В комнате было совсем темно. Вернее, не совсем – свет огромной полной луны всё же пробивался сквозь плотную ткань занавеси и освещал его лицо. Темные красивые брови хмурились во сне, высокий лоб был гладким и нежным, даже девичьим. Но мощные мышцы красивой шеи, нарушали это обманчивое ощущение. И, особенно руки… Любава покраснела так, что ей показалось, что от её щёк поднимаются маленькие облачка пара. Ох уж эти руки…
Она откинула одеяло и подставила лунным лучам круглое пузо. Лучи обняли его, приласкали, осветили. И снова непереносимое(непередаваемое, невыносимое) чувство счастья нахлынуло, сладко сдавило, до слез, до дрожи.
Люба всхлипнула, запахнула одеяло, повернулась на бочок, подставив спину под теплые руки.
"Завтра пирожки заведу. С малиною"– радостная мысль скользнула и растаяла в тихом, сонном воздухе…
***
Петрова неслась по воронке ещё с большей скоростью, чем тогда, в первый раз. Движение вверх всегда труднее, воздух снова начал отдавать плесенью, снежинки сначала стали острыми и, вдруг, превратились в дождь. Свет хлынул разом и тут же потух, превратившись в мутные блики рыночных фонарей, еле пробивающихся через грязное окно магазина. Дубленка камнем тянула туловище к земле, а каблуки казались копытами, поэтому она тяжело бухнулась на ободранную табуретку, с удивлением глядя на мерцающий шар, лежащий на ладони.
– Вы положите его сюда! Я вам сейчас аккуратно его заверну, уложу в коробку. Там же – инструкция. Её надо внимательно прочитать. Это обязательно!
Мужчина подошёл ближе, забрал шар и аккуратно упаковал его. Инструкцию, длинную, как старинная грамота, и испещренную закорюками, которые Петрова когда-то видела в бабкиной молитвенной книге, он аккуратно свернул трубочкой и тоже упаковал в хрустящую, папиросную бумагу.
– Всё сделаешь точно! Не отступая ни на шаг.
Он близко-близко глянул Петровой в глаза, и в глубине темных зрачков она на мгновение увидела изящную головку в белом платке и с рыжей чёлкой.
– Не надо мне никаких шаров! Я и ёлку не буду ставить в этом году! Хватит!
Петрова, неожиданно для себя просто взвизгнула это последнее "Хватит", схватила колготки, швырнула деньги и опрометью выскочила, треснув дверью напоследок.
***
– Купила, что ль. Полчаса торчала, на свою жопу размер найти не могла? Иль цветик подбирала, на грабля свои кривые?
Муж желчно шевелил своей «гузкой», но женщина почти не слышала слов. Она ошалело смотрела в окно, следила, как дворники елозят по стеклу, слизывая грязную воду…
Глава 3. ЗеркальцеСковорода шкворчала, котлеты чуть подгорели с одной стороны, но Петрова этого не замечала, механически, как робот, ворочала их лопаткой и всё думала, В голове горело, в памяти всплывали картинки той, подсмотренной нечаянно жизни. Ласковая, согретая солнцем трава, запах малины из туеска, теплый ломоть хлеба, густо намазанный маслом и мёдом, вкус воды, зачерпнутой ладошкой из ведра, только что поднятого из темных глубин колодца – всё это было таким живым, абсолютно реальным. Петрова скрутила золотистую крышку запотевшей бутылки дорогого пива (муж на пиво денег не жалел), глотнула, закашлялась и, с отвращением сплюнув в раковину, сунула бутылку в холодильник.
– Жрать давай. Скока возиться ещё можно! В брюхе подвело уж из-за тебя, копуша. Не можешь быстро, заранее готовь. А то чухаешься, как корова.
Петрова взбеленилась. Одним прыжком скакнула в комнату, окинула взглядом развалившегося на кресле мужа, выставившего ноги в затертых (любименьких!) носках, протертых на пятках и заорала:
– Те надо жрать? Ты! И! Жри! И отвали уже от меня. Достал по самое маманебалуй. Пентюх вонючий.
Петров изумленно раззявил рот и посмотрел на жену. Впервые он услышал такое от вечно равнодушной, полусонной женщины. И, вроде, как в неверном кадре старого кино, там, в проеме двери, вдруг промелькнула худенькая девочка с рыжей косой. Такая знакомая… Он махнул рукой, отгоняя наваждение, а вслух сказал:
– Охренела? Дура.
Петрова с силой запустила в него лопаткой, которой ворочала котлеты, но промазала, и та, пронесясь в паре сантиметров от круглой мужниной головы, вмазалась в стенку, потом скользнула за кресло, оставив на светлых обоях жёлтые маслянистые подтёки.
–Так тебе, зараза! … Козёл старый! – мстительно подумала Петрова, вспомнив, как тщательно муж, которого вдруг неожиданно прорвало на ремонт в их тесной, душной квартирке, выбирал эти обои, дороже которых не было на всем рынке, а потом отслюнявливал тысячные, выпятив дрожащую губу.
Быстро натянув сапоги прямо на домашние брюки, напялив старую замызганную куртку, и намотав кое-как шарф прямо на голову, Петрова выскочила на улицу.
– Ёлку! Надо купить ёлку! Как же я так? Ведь послезавтра же новогодняя ночь. А ёлки нет. Деньги, блин!
Она покопалась в кармане куртки, понимая, что это безнадёжное мероприятие, и придётся пилить домой за кошельком, а там, муж, наверное, уже вышел из ступора и, скорее всего, опять начнется… Бррр… Но вдруг, под пальцами что-то хрустнуло, и Петрова, не веря своим глазам, покрутила новенькую купюру.
"Надо же…Когда это я сунула-то? Во, дела!"
Для неё, аккуратно подсчитывающей рублики от зарплаты до зарплаты, и любовно откладывающей каждую сэкономленную копеечку "на чёрный день" и вправду это было странно. Однако думать на эту тему она не стала, и, стараясь обходить лужи, добежала до рынка.
Ёлочный развал в этом году поражал своим великолепием. Ёлки, сосны – и огромные, почти кремлевские и маленькие, аккуратно сидящие в красивых горшках, украшенные ошеломительными ценниками, были на любой вкус. Ещё раз пошуршав бумажкой, Петрова подумала, что в этом году она может позволить себе, ну просто – любую! Даже ту – с упругими, толстыми, чуть синеватыми лапами, пышную – не проглядеть насквозь. Вот! Именно её! И только! Правда ёлка была не маленькой, да ещё и горшок довольно значительный. Так санки! У соседей есть старые санки! И она мигом же, в момент сбегает!
Отложив ёлку, Петрова выскочила за ворота рынка и лицом к лицу столкнулась с продавцом того магазинчика. Он отшатнулся слегка, но, поймав Петрову за локоть, чуть прижал к себе
– Вы так быстро вчера убежали, Любушка. Я, может, обидел вас?
Петрова, совершенно не удивившись, что он знает её имя, которое она и сама, похоже стала забывать, выпалила:
– Да прям! Ещё я не обижалась на всякую фигню. Много больно на себя берёте. Просто спешила! У меня там муж в машине сидел тогда. Голодный, между прочим.
Она сама не понимала, почему грубит, но её несло, и остановиться никак не могла. Это было – всё равно, что поймать валун, катящийся с горы. Но мужчина совершенно не смущался, крепко держал её за локоть и вёл по обледеневшей к вечеру тропинке мимо опустевших рыночных рядов.
– У нас, Люба, знаете, зеркала вчера завезли. Просто чудесные, красоты необыкновенной. Они карманные, в латунной оправе, с инкрустациями. Сейчас таких не найдете, я вам честное слово даю. Просто взглянуть в него, и то приятно. Проходите…
Петрова, сама того не ожидая, вошла в магазинчик и присела на табурет. Втихаря глянув в конец прилавка, она увидела – шар там. Лежит себе, отливает темной летней водой, поблескивает свинцово. И инструкция, свёрнутая в трубочку – тоже рядом, как прислонили её к ёлочной лапе, так и не тронул никто.
– Я вам сейчас чайку плесну, а то вы – вон как замерзли. И в подсобку сбегаю, у меня там коробка с зеркалами. Я быстро, погрейтесь пока.
Он ловко налил чай в маленькую чашечку, положил лимон, насыпал пол-ложки сахара, поставил все на поднос, вместе с вазочкой полупрозрачного печенья, зажег лампы. Оказалось, что в этом крошечном полуподвале столько красивых ламп! Мерцающие теплым светом, они казались старинными и что-то напоминали. Может- свечи…Настоящие, неровные, из пчелиного воска…
Петрова хлебнула вкуснейшего чая, закусила печенькой. "Откуда он знает, что я люблю именно такой? Чтобы чёрный и с лимоном. И половинку ложки сахара? И печенье? Именно кунжутное…"
Но долго думать ей было некогда. Одним глотком допив чай, она схватила шар…
***
– Тужься, милааая, туууужься, роооодная. Не ленись, девка, давай"
Протяжный ласковый говорок доносился до Любавы издалека и немного разбавлял боль, огненным омутом затягивающий её тело куда-то в чёрную небыль. Позвоночник горел, как обожженый, но самым страшным было то, что кто-то безжалостный раз за разом всаживал в её живот горячее лезвие.