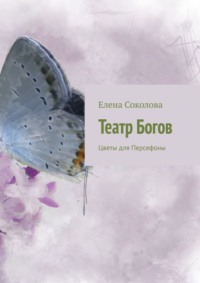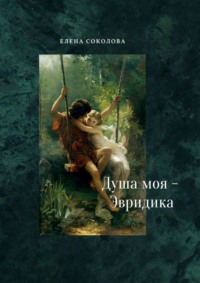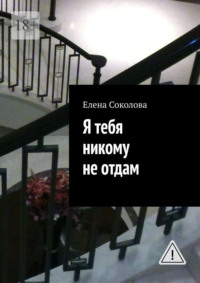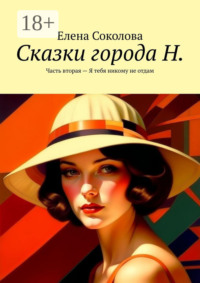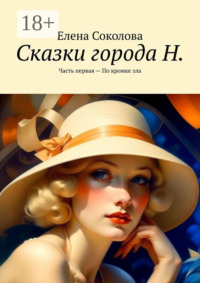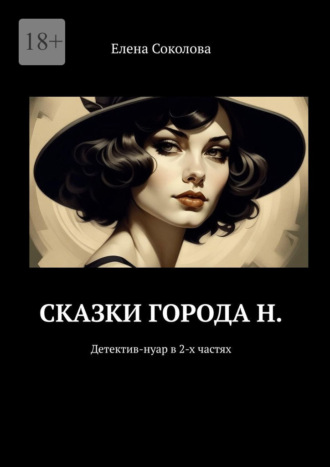
Полная версия
Сказки города Н. Детектив-нуар в 2-х частях

Сказки города Н.
Детектив-нуар в 2-х частях
Елена Соколова
Издание 2-ое, дополненное
Корректор Соколова Наталия
Дизайнер обложки Нейросеть Kandinsky 2.2
Редактор Бурова Белисса
© Елена Соколова, 2025
© Нейросеть Kandinsky 2.2, дизайн обложки, 2025
ISBN 978-5-0065-9294-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть первая. ПО КРОМКЕ ЗЛА
Все персонажи и события в этой книге —
чистейший авторский вымысел.
Все совпадения – не более чем совпадения,
они произвольны и носят совершенно случайный характер.
С уважением.
Е.С.
1. ЛИДА И МИР ВОКРУГ
Она терпеть не могла праздники. Особенно – Новый Год. Сколько Лида себя помнила, его всегда отмечали по обязанности. Всё было дежурным: ёлка, мандарины, салаты, открытки от родственников и особенно – открытки родственникам. Когда в быт вошел интернет, вся семья вздохнула с облегчением и перестала заполнять яркие поздравительные картонки убористым почерком, втискивая в крошечное пространство максимум вежливых вопросов и новостей. Забытые адресаты незамедлительно откликнулись тем же. Связь оборвалась.
Подарки друг другу тоже дарили по необходимости, а не из желания порадовать – потому радости они и не вызывали. Став старше, она научилась баловать себя сама, без помощи окружающих, на которых, впрочем, в её понимании, не стоило полагаться даже и в менее ответственных случаях.
За твёрдый характер, несгибаемое упрямство и редкостное здравомыслие её уважали, но не любили. Боялись, надо полагать. Детская трепетная душа была запрятана так глубоко и надёжно, что даже сама Лида позабыла о её существовании.
Ей нравилось помогать другим. И как в детстве она приходила на выручку к тем, кто забывал вещи, уроки и нужные слова, так теперь старалась поддержать больных, уставших, тех, кто хотел, но не мог, или мог, но боялся. Нерешительных, отчаявшихся, брошенных. И только влюблённым она никогда не помогала. И советов не давала. И не выслушивала. И вообще – всю эту публику близко не подпускала.
Сердце у неё было – кремень. И влюблённые обходили её стороной, не задаваясь, даже чисто теоретически, вопросом, а знает ли она вообще, что такое любовь? И так было понятно, что нет, не знает. И даже без «вообще». Просто – не знает и всё.
На самом деле, она, конечно же, знала, но здравомыслие подсказывало, что если не сложилось, значит – не судьба, и тогда лучшее, что можно сделать, это молчать о неудачах и как можно реже ковыряться в ранах – и в своих, и в чужих.
Почему не складывалось – было неясно. Она была крупной и красивой. Яркой. Одевалась броско, много шила и вязала, сама придумывала фасоны и расцветки, пока бродила по окрестностям небольшого сонного городка на берегу залива, в котором прожила всю жизнь и откуда всё время порывалась уехать – безрезультатно, впрочем.
Город считался миллионником, но не производил серьёзного впечатления. Он был растянут по берегу залива длинной узкой дугой и только в одном месте глубоко вдавался в сушу. Там, если смотреть на карту, в районе «поясницы полумесяца», отрастал такой большой нарыв-пузырь и утыкался в болотистые леса, прорезанные множеством хаотично раскиданных речушек и шоссейных дорог. Там не так сильно дули ветра, местность шла чуть вверх; там было посуше, чем на побережье, но и поглуше – не так оживленно и пафосно. Ни панорам тебе, ни пляжей. Задний двор усадьбы, если можно так выразиться, черная лестница, непарадный вход. Там жили, те, кому некогда было тусить по местным клубам, плевать в облака, лежа на пирсе в теплую погоду, и, прищуриваясь на закат, по-мещански бескультурно тыкать пальцами в сторону пристаней, обозначая отрывистыми матюгами место дислокации недавно купленного катера или яхты.
После смерти родителей, в большой просторной Лидиной квартире, где всегда были только необходимые вещи, поселились «ненужные предметы» – думки и подсвечники, плетёные коврики и салфеточки, фигурки сказочных героев, подушечки для иголок, картинки в рамочках, коробочки без назначения и вазочки без цветов.
Всё это жило и множилось вопреки здравомыслию, но зато в полном согласии с её фирменным упрямством и твёрдостью характера. Впрочем, Лида была уверена, что её здравомыслие настолько велико, что при необходимости вполне сможет подвести теоретическую базу под любое хозяйкино безумство.
Соседки и приятельницы, побывавшие у неё дома, уверяли друг друга, что это копится на продажу, а самые отъявленные сплетницы передавали, будто Лида планирует всё завещать местному музею, причем с условием, чтобы музей открыл свой филиал прямо в её квартире. Тем самым, заверяли они, Лида рассчитывает навсегда войти в историю города и быть похороненной за его счет на самом лучшем участке местного кладбища – в том его квадрате, что стоял закрытым последние лет пятьдесят, и прятался от солнечный лучей и трескучих морозов под кронами огромных елей и лип. Конечно, для такого нужны связи – но связи у неё есть, твердили они, недаром она обшивает всю районную администрацию.
Быстрые, тихие шепотки достигали ушей Лиды, и она звонко смеялась.
– Делать им нечего, старым калошам, придумывают Бог знает что!
Связи её с администрацией ограничивались тем, что некоторые из сделанных ею подушечек, вязаных капоров, рукавичек, а особенно муфточек, с удовольствием брали с рук чиновные модницы. «Руки» принадлежали Лидиной бывшей однокласснице Тамаре, работавшей в этой же администрации кем-то вроде завхоза. Однако бывшая товарка по классу никогда не раскрывала клиенткам имя мастерицы, чтобы не остаться без приварка, поэтому сотрудницы были уверены, что это её работы, и что они делают доброе дело, помогая коллеге выживать на скромную зарплату. Поэтому они всегда дарили ей небольшие презенты и заверяли в готовности помочь с решением насущных вопросов. Тома оставляла презенты себе, а Лиде передавала приветы и – изредка – обещания посодействовать. Но Лида пока ни в чём таком не нуждалась, так что проверить всё это на прочность случая не было.
Какие-то вещицы она делала по своим задумкам, какие-то на заказ; одни были простенькие, но бывали и сложные, дорогие – ей было одинаково интересно и то, и другое. Сама она очень любила капоры и муфты; она делала их из кусочков натурального меха, комбинировала с кожей и войлоком, украшала вышивкой или сделанными из атласных лоскутков аппликациями. Товарка обычно приносила ей детальное описание заказа, подробные размеры и пожелания. Как правило, этого хватало. Она, если честно, и сама не очень рвалась общаться с заказчиками. Ей нравилась дистанция и ей совсем не хотелось ставить себя в позу официанта; ей думалось, что в каком-то смысле, пока она не сталкивается лицом к лицу с теми, кто покупает её работы, она от них не зависит. Разумеется, это была иллюзия, но очень лестная для самолюбия. К тому же, в её понимании эта анонимность вполне уравновешивалась более чем демократичной ценой. О том, что для покупателей называемые ею цифры взлетали в полтора, а то и в два раза – она не знала. И узнать об этом – ей пока не случалось.
Одиночество не тяготило нашу героиню, но когда становилось очень тоскливо, она начинала разговаривать вслух. С думками и подсвечниками, с фигурками и картинами в рамочках. Они внимательно выслушивали её, соглашались, а если и спорили, то мало и недолго. Всё-таки хозяйкой в доме была именно она и именно от неё зависело, сколько раз в неделю с тебя будут смахивать пыль и где будет твоё место, твоё личное пространство – на столе, на диване, на гвоздике, заботливо вбитом в стенку, или где-нибудь на жёсткой скамейке в районе плинтуса, а то и вовсе в наглухо запертом шкафу, где нечем дышать и где свет, отражаясь в стеклянных дверцах, приносит только беспокойство и усталость.
Она была слишком здравомыслящей, чтобы кому-нибудь рассказывать о таком, да ей бы никто и не поверил – по той же причине. Сама она, впрочем, задумывалась порой – в своём ли она уме, но каждый раз упрямство и здравомыслие выручали её. До тех пор, пока ты задаёшь себе этот вопрос, – снисходительно объясняли они ей, – ты в своём уме. Вот когда ты перестанешь это делать, тогда пиши пропало.
Эта странная привычка была для неё необременительной и удобной. Правда, раньше Лиде всё же приходилось следить за собой на людях, но с появлением гарнитур Bluetooth это перестало быть проблемой. Теперь, когда ей надоедало сдерживаться на публике, она просто надевала на ухо гарнитуру – и всё. Мимо неё пробегали такие же занятые сверх меры, спокойные, смеющиеся или плачущие. Все они разговаривали в голос, вслух, но с собой или с кем-то – это далеко не всегда можно было определить с первого взгляда. А дома звучание её голоса разгоняло тишину, оживляло долгие вечера. Тревожные и тягостные мысли не успевали пустить корни, сложные вопросы решались легче – если она проговаривала варианты вслух.
Одиночество отступало, давая дорогу мужеству и фантазии. Лицевые мышцы, натренированные постоянным общением с самой собой, держали овал и помогали противостоять переменам. И Лида вполне справедливо полагала, что есть много людей с гораздо более вредными привычками – не только для них самих, но для планеты в целом, так что корить себя или стыдиться ей было нечего и незачем.
Жила Лида на окраине, в том самом «пузыре на пояснице». Район был рабочим, ни крупных торговых центров, ни особых развлечений здесь не водилось. Маленькие кафешки, баньки-сауны; даже магазины здесь остались почти точно такими, какими были и тридцать-сорок лет назад, только ассортимент и кассовые аппараты сменились, да краску на стенах и полы подновили за эти годы. Народ здесь в основном ложился рано, к полуночи улицы пустели и затихали. Соседки провожали её взглядами и сокрушались, что у такой статной, красивой женщины нет ни семьи, ни детей. В старинных романах кто-нибудь обязательно произнес бы сакраментальное: «Милая, да вы просто созданы для материнства!» Теперь всё было проще и не столь учтиво: «А ты чё детей-то не заводишь? Больная, что ли? Или не от кого?»
Детей для себя Лида не хотела. Для детей нужна семья, а семьи у неё не было. И чтобы ей не задавали вопросы ещё и по этому поводу – она отшучивалась, говорила, терпеть детей не могу, так же как и праздники. Публика от таких заявлений терялась и умолкала. Но Лида действительно детей не любила. Она не знала, что с ними делать. Квохтать над ними она не умела, мешало то самое здравомыслие, которое никак не могло взять в толк, с чего бы взрослому, образованному человеку умиляться несмысленному1лепету того, кто пока ничего действительно достойного внимания из себя не представляет и ничего вразумительного ни сказать, ни сделать не может. Потом из кряхтящих свертков вылуплялись крикливые существа, не видевшие вокруг никого и ничего кроме себя, эгоисты, не знающие пока ни правил, ни пределов. Здесь не было их вины, Лида признавала это, но мириться – не желала. А позже… позже, когда они начинали ходить и разговаривать – они бесили её ещё больше. И вновь это была не их вина. Они были плохи, потому что плохи были их родители. Потому что больным, – считала Лида, – было само общество, с его порочным отношением к воспитанию и взрослых, и детей.
Лида была человеком строгих взглядов – ближе к викторианству, нежели к современности и вполне в духе знаменитой байки о Сократе, заявившем матери трёхдневного сына, что «вы опоздали ровно на три дня», когда она спросила его, с какого возраста нужно начинать воспитывать детей. Её бесили мамаши, которым было наплевать на всех и вся, включая собственного ребёнка. Мамаши, которые рожали, потому что так надо – для скидки по ипотеке, для получения квартиры или материнского капитала. Чтобы остаться на работе при сокращении, чтобы пересидеть неугодного начальника, чтобы заполучить богатого мужа, просто чтобы заполучить мужа. Либо – и это было для неё вершиной «наплевизма» – просто потому что так вышло. Они садились в машину рядом с мужем, садились на пассажирское сиденье, справа от водителя, и сажали себе на колени годовалого ребенка. То, что среди водителей это сиденье именуется «местом смертника», потому что при угрозе столкновения почти сто процентов сидящих за рулем инстинктивно поворачивают руль так, чтобы между ними и летящей на них машиной оказалось как можно большее расстояние, и, соответственно, подставляют удару именно правую сторону автомобиля – их не волновало. Им такие мысли даже в голову не приходили. Чадолюбивые папаши делали ещё проще. Они ставили на это сиденье кресло с малышом, намертво пристёгивали – и стартовали. «Мой паровоз, вперёд лети….»
Войдя в супермаркет, молодая мамаша расстёгивала пальто, снимала шапку и перчатки – чтобы было удобно и не так жарко. Однако ей даже в голову не приходило распаковать младенца в коляске, и он исходил отчаянным криком, краснел лицом и тряс коляску. Люди рядом морщились, отворачивались, а заботливая мама стоически изучала ленту новостей в смартфоне и, изредка встряхивая коляску, приговаривала «тише, тише», не отводя глаз от экрана. Дети постарше шлёпали до магазина по снегу, лужам, и пыльному асфальту, а потом «продвинутые» мамаши и папаши усаживали их с ногами (и грязными сапогами), прямо в продуктовые тележки на колесиках, в тележки, которые никто после этих юных «инвалидов» не мыл и не протирал. Делать замечания было бесполезно. Взрослые хамили и могли ударить. Дети – те просто не понимали, что происходит. Им делают замечание. А что это? И кто это? И как посмел? Да-да, маленькие человечки, трёх-пяти лет от роду смотрели на рискнувшего, как на наглеца. Они ещё не умели себя вести, не умели думать, не умели даже толком говорить, но смотреть на взрослого человека, как на вошь, они уже умели. И за это тоже нужно было благодарить их родителей.
Адептов современного воспитания, пафосно призывавших к детству, свободному от замечаний, ограничений и наказаний, она ненавидела, ибо справедливо полагала, что «неприученный к повиновению и повелевать не сможет». Лида ничуть не сомневалась, что из этих маленьких «смешариков», кишмя кишевших вокруг, в конечном итоге, вырастут самые настоящие «кошмарики», которые всенепременно и очень наглядно продемонстрируют своим воспитателям все прелести и последствия избранной ими некогда методы.
Может быть, именно от этого Лида так плохо относилась к влюблённым. От несчастной любви не было никакого проку, а от счастливой – рождались дети. Куда ни кинь – везде клин.
Любой умный, проницательный человек, взглянув со стороны, сказал бы, что Лида не терпит влюблённых и детей не потому, что искренне их не приемлет, а от горечи несложившегося. Так легче ей держать в отдалении всё, что когда-то желалось, но так и не случилось с ней самой, и потому, приближаясь, теперь способно причинять лишь боль, растравливая скрытые ссадины и раны. И он был бы прав, потому что иногда она всё-таки скучала. По теплу объятий, прохладе щеки, прижатой к твоей собственной, по влажному жару потрескавшихся от поцелуев губ, по смеху невпопад, по смущенным уклончивым взглядам первых свиданий и по робким первым признаниям.
Не сложилось – не значит, не нужно было совсем. Но если радость любовной близости ещё могла открыться Лиде, то вот дети… теперь это был предмет скорее умозрительный. Надо было бы, но… но теперь было уже поздно. Но иногда – иногда всё-таки хотелось. Уже не столько детей, сколько действий: любить, учить, лелеять, ждать, встречать. Того или ту, что всегда – именно всегда! – будет твоей частичкой, сколько бы вёрст и времён не пролегло. Она плакала порой, когда была уверена, что никто не слышит. Но судьбы слышат всё, просто им нужно время, а нам – не нужно им мешать.
Истинное блаженство жизни Лиды состояло в тишине. Ей повезло, и не только в том, что дом был на окраине, но и в том, что её квартира на втором этаже небольшой пятиэтажки, построенной в самом начале 70-х, была очень удачно расположена. Дом одним торцом утыкался в трамвайную остановку на пустынном, полузаброшенном проспекте, где дальше были только ещё не заселённые новостройки, гаражи, а потом – лес, смыкавшийся с длинной лентой заболоченных озёр. Другой торец выходил на пустырь. Летом там гоняли в футбол и пили дешёвое вино под чахлыми кустами сирени. Зимой пустырь укрывало ровным слоем снега, и собачники со своими питомцами протаптывали в сугробах под грязно-жёлтым огнем редко расставленных фонарей узкие дорожки, смотревшиеся издалека, словно сеть марсианских каналов. И, как на Марсе, в округе было пустынно – звуки рассеивались, таяли в воздухе.
Её подъезд был последним, самым дальним, если считать от остановки. На этаже было три квартиры. Однушка, трёшка и Лидина четырёхкомнатная, ещё один объект недовольства сплетниц. В однокомнатной жила набожная бабулька, скользившая по дому тихой мышкой. Она так редко выходила на улицу, что Лида дивилась порой – неужто соседке продукты через окно передают, в ночи, пока никто не видит? Не может же она совсем ничего не есть! Но верная своему одиночеству и правилам невмешательства, она не задавала вопросов. Да и как задашь, если человек не выходит? Не в дверь же ему звонить – вы ещё живы? Что едите, что пьёте? В трёшке, напротив Лиды, жила толстая Валентина, заядлая сплетница, которая ревностно блюла тишину, ибо иначе ей было не слышно, что происходит вокруг.
В четырёхкомнатной квартире ниже этажом никого не было. Она стояла закрытая, погруженная в сонную тишину, как дворец Спящей Красавицы. Хозяева, муж и жена Гольцы, Камилла Эдуардовна и Матвей Ефимович, умерли в самом начале девяностых, почти одновременно, день в день, а дети, Марк и Катя, наглухо закрыли шторами и решётками окна, врезали навороченные замки в старенькую, но ещё прочную входную дверь, и первое время изредка наведывались, чтобы сделать капитальную приборку в квартире.
Гольцы всю жизнь коллекционировали антиквариат. Это не было профессией, это было для себя, как говорится, для души. Они ничего не перепродавали, и очень редко продавали однажды купленное. Они всё берегли, и это копилось, заполняло пространство, прирастало пылью и глухими скрипами. Тяжеловесные дубовые шкафы, пузатые комоды с гнутыми ножками, зеркала, чьи рамы напоминали вязь морозных узоров на стекле, бронзовые подсвечники в патине, ларчики и коробочки, старые открытки и старые фотографии. Огромный рояль в гостиной скалил жёлтые, словно прокуренные, зубы-клавиши. Пластинки слоновой кости, которые их покрывали, много где потрескались и отлетели, из-за этого сколы смотрелись как провалы в огромной яме щербатого чёрными клавишами рта. На рояле громоздились старые издания оперных партитур и сборники романсов. Тут же лежали перламутровые веера, разной степени поломанности. Оставшаяся без пары перчатка из тонкой лайки, небрежно обвившая один из вееров, когда-то, вероятно, была белой, но с тех пор изрядно посерела, и стала похожа на сброшенную змеиную кожу. В пузатой лакированной шкатулке горой были навалены разных размеров пряжки и заколки для волос; бусы вперемешку с браслетами выхлёстывали на чёрную полировку и растекались по ней. Ценности почти никакой они не имели, но выкинуть – у наследников рука не поднялась. В детские годы оба они, и брат и сестра, обожали возиться с этими безделушками. Их пригоршни становились то пиратской добычей, то волшебным кладом. В один вечер это могло быть сокровищем дракона, в другой – приданым сказочной принцессы.
Когда-то Лида играла вместе с ними, но дружба оказалась недолгой. Как детям хозяев, им причитались важные роли, а ей доставалось изображать слуг, носильщиков, боцманов или простых матросов. Даже коварного дракона, или главаря злых разбойников – этих смертельных врагов пиратов и принцесс – ей ни разу так сыграть и не удалось. Впрочем, она уже тогда была очень рассудительна и сделала всё, чтобы им даже в голову не пришло, будто она чем-то обижена. Она записалась в кружок кройки и шитья и вначале ходила туда мало и ненадолго – скорее, чтобы отучить их звать её каждый раз, когда по сценарию нужно было нести поклажу, чем ради самого рукоделия. Но потом тонкости шитья увлекли её так сильно, что она совсем забыла о товарищах по играм. Они, кстати, не очень и возражали – Лида с малолетства была существом настолько разумным и последовательным, что в её присутствии они всегда чувствовали себя неловко. Возможно, этим частично объяснялся характер предлагавшихся ей ролей – они были компенсацией за испытываемый дискомфорт.
Однако, теперь именно эти её черты оказались ими высоко оценены – к ней пришли чуть ли не с поклоном и просили стать кем-то вроде смотрителя в музее, хранителем ключей. Ещё её просили стирать пыль и проветривать комнаты – хотя бы раз в неделю. Кроме того, Лиду попросили иногда пить на кухне или в комнатах кофе или чай – создавать, что называется, жилую атмосферу и страховать, тем самым, квартиру от возможных краж, да и просто любопытных носов, ушей и глаз.
Возможно, проще было бы сдать жильё – но мешал весь этот старый хлам. Он не имел особой ценности, да и трудности перевозки сильно занижали стоимость, однако выкинуть всё равно было жаль. Сдавать кому-то со стороны – представлялось опасным, сдавать своим пришлось бы со скидкой. Дорого сдавать тоже не получалось – как драть три шкуры за жильё, в котором и без постороннего присутствия толком не повернёшься? Просто запереть и оставить как есть – было страшновато, водопровод, и отопление были сильно изношены, за их состоянием следовало хотя бы присматривать, коли уж ремонт в планы хозяев не входил. Отсюда и родилась идея пригласить Лиду в смотрительницы. И может быть, именно эта её роль как раз натолкнула злоязыких соседок на мысль, что Лида хочет устроить из своей квартиры музей. Получалось-то как по заказу: и подъезд – крайний, и застройки рядом нет, пустырь только этот, но он прямо просится парковку машинную из него сделать. И обе квартиры – мало что торцевые, так ещё и друг над другом, прямо музей и получится, даже двухэтажный, а то и трёх-, если дядя Коля вдруг свою тоже решит продать под это дело, сдавать-то у него не очень получается, вон, стоит пустая по половине года.
Те из сплетниц, что не были вовсе лишены оптимизма и добрых чувств к окружающим, поддерживали идею – может, тогда ремонт в подъезде сделают, всё польза. А может, ещё и территорию благоустроят, скамейки новые поставят, а может, и качели, или вот клумбы разведут. Те, что позлее – ругались и на Лиду и на наивных товарок. Дуры, твердили, вы что, впрямь думаете для вас что-то станут делать?! Фигушки! Вот увидите, выселят всех, дом разберут, территорию продадут. А начнется всё с этого музея, с Лиды этой чёртовой, которая ходит тут, как палку проглотила, ни с кем не здоровается, никого к себе не подпускает.
Конечно, последнее было неправдой. Злые языки преувеличивали. Она и здоровалась, и с соседями была обходительна и дружелюбна. И пусть в дом к себе не звала и тесной дружбы не водила, но всегда останавливалась, если обращались, выслушивала и старалась помочь – если просили. В душу – да, не пускала, и секретами не делилась – ни своими, ни чужими, и вот как раз это ей простить не могли. Собственные Лидины секреты мало кого интересовали, она вся была как на ладони, но она знала многое о других. Знать знала, а рассказывать не хотела, в этом-то и состояло преступление.
«Недаром фамилия у неё – Белокрыльская, – шептались сплетницы. – Знает, а говорить не хочет. Мы говорим, а она – нет. Выше нас хочет быть, крылья белые свои марать не желает. Мы, значит, грязь, а она – святая. Ага! Держи карман шире!»
Ещё её ненавидел Николай, которого все соседи называли дядя Коля – он жил прямо над ней, этажом выше. Просторную квартиру когда-то занимала его большая семья – он сам, жена и двое пацанят, которые вечно носились по комнатам, гогоча и топоча, никто им был не указ, никто не мог их урезонить – ни мать, ни отец. Стихали они только после девяти вечера, предварительно отсмотрев очередную порцию мультиков на ночь. Просмотр длился минут двадцать-тридцать, но зато громкость они выкручивали на полную. Лида, если была не в настроении и погода позволяла, просто одевалась, выходила на улицу, и шёпотом благодарила Всевышнего, что эти оторвы ещё малы, и это просто полчаса мультиков, а не полтора-два часа какого-нибудь тупого боевика или сериала. Когда старший пошёл в школу, к детским воплям прибавилась ругань родителей. Правописание вколачивалось в юный ум едва ли не в прямом смысле слова. Мать грудью вставала на защиту лентяя, ибо он именно ленился, способности-то были, отец рвался продолжать воспитание. Семейные ссоры плавно стали перерастать в мордобой, и в один морозный февральский день, дядя Коля, придя с работы, не обнаружил дома… никого. То есть, совершенно. Жена забрала детей и уехала к матери в далёкий сибирский город, куда билет на самолёт в одну сторону стоил как пол-дядиколиной зарплаты, а поездом туда нужно было ехать чуть не две недели, и билеты были не многим дешевле. Где она взяла деньги – осталось неизвестным, но уйти им удалось без всяких подозрений. Соседи не заметили ничего необычного. Мать и дети вышли из дома, она с сумкой, с которой всегда ходила в магазин, большой, кожаной, прочной, в такой отлично умещались, в дополнение к обычному набору ключей, очков и кошельков, литровый пакет молока или кефира, хлеб и пара пачек масла или творога. У детей были рюкзачки за плечами – вполне обычные, к слову сказать, и одеты они были как всегда. Ну разве что, вспоминали потом соседки, шли тихо, сосредоточенно так. Но и здесь не приметили тогда ничего странного, может, торопились куда-то, мало ли что. А теперь оказалось, что и впрямь торопились – на поезд или самолёт. Телефоны мобильные были тогда ещё не у всех поголовно, у дяди Коли его как раз и не было. Сначала он не взволновался, ну ушли и ушли, странно, что записки не отставили, но вернутся, куда они денутся? К ночи, естественно, разнервничался, начал по соседям бегать. Но никто ничего вразумительного сказать не мог, а тут ещё машина подъехала, дорогая, по ней видно было, аж бока лоснились, и вся она была такая чёрная, вальяжная. Выпорхнула из неё мадам в каракулевом пальто, стильном аж до не могу, и в залихватской папахе из такого же новорождённого барашка. Кожа белая-белая, брови в ниточку, губы алым прорисованы – чистая Марлен Дитрих, и выражение лица такое же, отстранённое. Поднялась на третий этаж, в дверь дяде Коле позвонила. Он с матюгами открыл – думал, пропажа его вернулась. Увидел, от неожиданности как начал орать – да ты кто, да чего припёрлась? А дамочка плечом пожала, конверт в руки сунула. «Ваша жена передать велела», – и вниз, не прощаясь. Он за ней, а она повернулась и отчеканила: ничего, мол, не знаю, работаем вместе, письмо мне оставила, просила передать вам лично в руки, да ещё сказала, что, мол, пока не надо, а она, жена ваша, сообщит, когда этот момент настанет. «И вот сегодня, – продолжила гостья, – в начале рабочего дня, мне позвонили и попросили приехать сюда вечером, после двадцати трёх ноль ноль и отдать конверт. На работу супруга ваша не вышла – в полдень стало известно, что уволилась накануне вечером, одним днём».