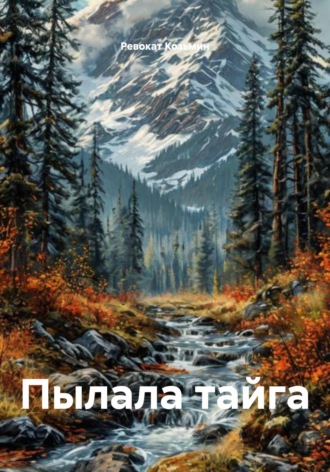
Полная версия
Пылала тайга
– Извини меня, мам, что я не поделился с тобой своими наметками в плане учебы, – объясняется Тихон. – Просто считал преждевременным доводить до тебя эти соображения. Но поскольку об этом речь зашла, то признаюсь, что еще на корабле я об институте думал и даже самостоятельно готовился к вступительным экзаменам в Иркутский политехнический. Думал демобилизуюсь и отправлю документы в приемную комиссию. А домой приехал и вот … Тихон замолчал, перекидывая смущенный взгляд то на мать, то на Дарью. За семейным столом наступила тишина. И эту паузу в разговоре все трое всяк по своему наполняли не готовыми к высказыванию, летучими, мгновенно приходящими и молниеносно исчезающими мыслями. Лидия Ильинична, наверное, думала: «Хорошо, что сын поступит в институт». Сознание Дарьи, возможно, отметило в словах и голосе мужа некий оттенок сожаления о несбывшейся мечте и это больно укололо ее женское самолюбие. Обе они молча обдумывали ситуацию, машинально, без всякого интереса отпивая, остывающий в кружках чай. А перед Тихоном, задумчиво умолкнувшим, всплыла самая яркая, самая дорогая для него картина – день, когда после долгой разлуки они вновь встретились с Дашей, тот вечер, подаривший ему незабываемые минуты счастья. Океан синих очей, сияющих нежностью, в один миг заслонил перед ним весь мир и с первым поцелуем, с вихрем горячих чувств, охвативших все его существо, молодой моряк унесся на фантастическом волшебном корабле любви в сказочные дали, где никогда не кончаются, не меркнут и не остывают тепло солнца и ласки голубых вод. Ему хотелось сейчас обнять и Дашу, и мать, признаться, как он сильно любит и ту и другую, но он, усмиряя биение сердца, сдержанно произносит первую, зависшую в сумбуре сознания мысль: «Мама, не переживай, я обязательно поступлю на заочное в институт. Но уверяю только, что в отличие от Гришки Паршина, я никуда не собираюсь уезжать».
– Разве лучше нашей Селивановки что-нибудь есть на свете, Даша? – произносит Тихон, поднимаясь со стула и обнимая то жену, то Лидию Ильиничну.
Уезжал Тихон в Иркутск на подготовительные курсы жарким июньским днем. В аэропорт, представляющий собой всего-то навсего гравием отсыпанное поле, да скромное одноэтажное здание с тесными комнатами для наземной службы и пассажиров, Дарья привезла его и Лидию Ильиничну сама, на мотоцикле. Лидия Ильинична охотно угнездилась в железной коробушке. Она хотела посмотреть как «Антошка» пролетит над рекой и как затем он поднимется над Тунгуской и полетит куда-то в Иркутск, в котором за всю свою долгую жизнь Лидия Ильинична ни разу не бывала. Видела город на кадрах «новостей» – на фотографиях и открытках у геологов. Телевидения тогда в селе еще не было. Когда Тихон служил на флоте, председатель сельсовета, предшественник Жилина, Феофан Астахов, пристраивал их к ней на постой. Одно время они безвыездно, месяцами жили в Селивановке, мотаясь в походах по всему району. От них Ильинична узнавала о жизни в городе, о всяких новостях в мире, о телевидении, которое скоро заменит кино, и что оно обязательно появится в Селивановке – и тогда Ильиничне не надо будет ходить в клуб. Как сейчас она видит в окошке берег реки и все, что по ней движется, сказывали бородачи, так и в будущем у нее в зале на тумбочке будет стоять этакий ящик с передней стенкой из стекла и по нему, по этому «окошку», будут бегать и трамваи, и машины, стекло покажет любой фильм и все, что происходит на белом свете.
– Про вашу Селивановку, – говорили геологи, – тоже когда-нибудь весь мир узнает. Мы же не зря который год «копытим» тут, на вашей земле. Именно Тунгуска первой в Сибири еще в прошлом столетии показала и подарила нашему брату несколько маленьких, необыкновенно дорогих камешков – алмазами называются. Очень красивые камешки! Если найдем, где Тунгуска ваша прячет их, то вы заживете, как в сказке, – поясняли Ильиничне бородатые искатели сокровищ.
У здания аэропорта, в тени которого Дарья припарковала мотоцикл, Ильинична увидела нездешних людей, похожих на тех бородатых мужиков в полевой одежде, которые когда-то останавливались у нее на постой. Они сидели на продолговатом, зеленой краской окрашенном, ящике. С такими сундуками и у нее на подворье проживали геологи. Она знала, что в них укладывалось: камни, собранный и упакованный в холщовые мешочки песок, прочий материал, называемый образцами пород. Разморившись от жары, они о чем-то лениво переговорили, после чего один из них встал, вынул из полевой сумки бумаги, бросил громко: «Я на почту!». И ушел.
С военных сороковых годов и по сей день Тунгуска привлекает внимание искателей руд. Сплавляясь по реке, небольшой отряд геологов и в том году остановился в Селивановке, чтобы пополнить запасы продовольствия, воспользоваться устойчивой телефонной связью для переговоров и отправить рейсовым самолетом в Иркутск образцы пород, собранных ими в походе. Гостям здесь, в глубинке, всегда рады. Особенно теперь, когда жизнь в поселке замерла. Местная власть приняла иркутян как своих добрых друзей, как заправских таежников. После обеда новый молодой глава поселения, Антон Савельевич Страхов и старший группы геологов, ушли в поссовет. Сидя в кабинете после переговоров с иркутским руководством, начальник поисковой партии Ибрагим Тугушев, словно ушел в себя, озабоченно умолкнув и скрестив на груди руки. Страхов тоже молчал, расценив разговор гостя с иркутским управлением не очень приятным для Тугушева. Чтобы как-то разрядить обстановку, Страхов встал из-за стола и прошел к сейфу, снимая с него шахматы.
– Ибрагим Ахметович, пока летунов дожидаемся, может, сгоняем партию? – обратился он к геологу, раскрывая по ходу видавшую виды коробку.
– Пожалуй, стоит! – встряхнув густоволосой, бородатой головой, машинально ответил гость. Как заядлый шахматист, Страхов быстро высыпал фигуры на стол и продвинул на его середину раскрытую доску. Определившись, кто будет играть черными, а кто белыми, соперники сосредоточенно окунулись в раздумья, всяк по-своему погружаясь в предстоящую борьбу. Тугушев осторожничал и даже два раза просил соперника разрешить ему поменять предпринятый ход. Страхов не возражал ни в том, ни в другом случае, стараясь при этом ненавязчиво направить разговор с геологом о работе его группы в поисковом сезоне.
– Как вы думаете, Ибрагим Ахметович, – спрашивал он соперника, делая очередной ход, подразумевающий потерю Страхов пешки, но обеспечивающий ему выгодное положение на шахматной доске, – есть ли все-таки надежда на то, что в нашем крае вы откроете месторождение алмазов; штучные-то находили и находите, наверное. Пожалуй, не одну пригоршню собрали? Может, раскроете нам свою «заначку»?
– Не знаю, не знаю, что и сказать, – растягивая каждое слово и блуждая взглядом по точеным фигурам, отвечал Тугушев. Задумчиво побарабанив пальцами по столу и снимая с доски срезанную пешку, он со вздохом продолжил: «С вашим вопросом и этой пешкой вы, Антон Савельевич, окончательно загоняете меня в угол. Признаюсь, решающий гамбит вы разыграли красиво. Классно разыграли, совершенно классно!» – геолог теребит волосатый подбородок, добавляя: «Предлагаю ничью». Страхов в ответ улыбается и пожимает плечами.
– Видите ли, – продолжает капитулирующий соперник, – ваша Тунгуска тоже с нами в свои какие-то «шахматы» играет. Пока, как вы на этой шахматной доске, на своем поле она не желает пока жертвовать крупными фигурами. Не раскрывается, хоть убейся! Но ничего, народная мудрость не зря гласит: вода камень точит. Полагаю, что мы тоже не впустую топчем тропы в тайге и бьем по целику шурфы. Если не алмазы, то что-нибудь другое накопаем. Обязательно! – повеселевшим голосом утверждает Тугушев, прислушиваясь между тем к звукам за окном. Там зародился и с каждой секундой нарастал гул мотора двукрылого «Антошки». Игроки встали из-за стола, намереваясь последовать к взлетно-посадочной полосе, видневшейся из окна. Туда же направлялись пассажиры с провожающими, двое рабочих несли ящик с рудными образцами. Приняв отъезжающих, почту и груз, воздушный тихоход улетел. Провожающие разошлись и разъехались по домам, вновь окунулся в сонливую жару аэропорт, погрузились на плот и отчалили от берега геологи.
Администратору Страхову, мечтавшему в корне преобразить пришедший в упадок поселок, перешедший в такое состояние после развала в эпоху Ельцина, хотелось, чтобы он не оставался отсталой глубинкой, а рос, приобретал большее значение, чем то, в котором он находился. Чтобы аэропорт превратился в настоящую воздушную гавань с бетонной взлетно-посадочной полосой, освещенной навигационными фонарями, с рулежной дорожкой, с аэровокзалом и стояночной площадкой для больших и малых самолетов. Одним словом, чтоб все было таким, каковым стало у северных соседей близ алмазных месторождений в городе Мирном. Страхову досадно было осознавать, что Тунгуска лишь поманила людей солнечным блеском алмазов, подразнила штучными экземплярами, разожгла у геологов азарт, а у селивановцев надежду на то, что они «ковшами, да туесками» будут черпать драгоценные камушки из алмазных сусеков Тунгуски. Не расщедрилась, однако, тунгусская земля, не раскрыла перед ними глубоко упрятанные царские запасы ее сокровищ. А так хотелось, так мечталось обрести у себя под боком такую же алмазную трубку, как «Мир» у города Мирного и построить здесь, в прекрасной тайге, в тихой пазухе лесистых гор, светлые корпуса обогатительных фабрик и кварталы белокаменных домов, проложить хорошие дороги не только до райцентра, но и до Байкала и Иркутска, взбудоражить глухомань, вдохнуть в нее новую жизнь. Так думал он, Антон Страхов. Исстари, местные народы используют бассейн Лены как большую, зимой ледовую, а летом водную дорогу. С бурных купеческих лет восемнадцатого и девятнадцатого веков, реку навсегда оседлали вначале сплавные бревенчатые плоты и большие дощатые лодки, называемые на местном диалекте «карбаса», позже – пароходы на колесной тяге, прозванные «лаптежниками» за их гребные лопасти, приводящие в движение судно, а в советское время взамен всему этому старью, на главную водную магистраль Восточной Сибири вышли современные грузовые и пассажирские теплоходы. Сюда напросился на работу земляк Страхова Валерий Жилин.
Родившийся и выросший в Селивановке, получивший прекрасное образование в Новосибирском институте водного транспорта, повидавший, будучи студентом, волжские города во время практических стажировок. Бывал в Москве и Ленинграде. Окончив институт с отличием, попросил при распределении отправить его на работу в Верхоленское речное пароходство, поближе к родительскому дому. Но он тогда никак не предполагал, что не Лена, а Тунгуска останется с ним в его жизни навсегда. С появлением новичка из Новосибирского вуза на теплоходе «Яна» в должности помощника капитана, экипаж увидел в лице назначенца ладно скроенного, словно влитого в форменную одежду молодого человека. При знакомстве лицом к лицу каждый в нем отметил и крепость рукопожатия, и открытость взгляда, и твердую ясность речи. Когда капитан повел Жилина располагаться в отведенной для него каюте, боцман Руслан Точилин посмотрел им вслед и коротко бросил: «Наш парень!»
В сложных условиях ранее и ныне работают ленские речники, выполняющие роль одного из основных звеньев в транспортной системе Восточной Сибири. Они принимают на свои плечи – на палубы барж и в трюмы судов – колоссальный объем грузов, поступающих по железной дороге в Усть-Кут и предназначенных для населения Республики Якутия, для ее промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Пересекая материк с юга, от Байкальских гор и до Северного ледовитого океана, река вскрывается весной не с устья, а от истоков, где теплый сезон раньше наступает. Обычно весна бывает здесь дружной и тогда река, разбухшая от влаги тающих снегов и проснувшихся притоков, на глазах взрывается, с глухим гулом ломает лед по всему руслу и уносит вон белую лаву, точно торопится избавиться, сбросить с себя надоевшее ей холодное зимнее одеяние. Торопятся и речники. Стоит ледовой обстановке в какой-то степени разрядиться – речники немедля направляют суда на причалы под погрузку. Порт сразу оживает, оглашая окрестности гудками теплоходов, катеров и портовых буксиров, сигналами подъемных кранов, электрокаров и автомобилей. Заждавшиеся жарких дней навигации, соскучившиеся по бойкой сутолоке на причалах, докеры деловито снуют между берегом и палубами судов, азартно выкрикивая крановщикам накрепко засевшие в их лексиконе командные «вира» и «майна». Каждая бригада грузчиков стремится опередить соседей и отправить в рейс первым ими обслуживаемое судно.
Жилин впервые уходил в плавание по Лене. Загружались они ночью, а от причала отчалили на рассвете, сырым, неласковым днем. Перед выходом на маршрут, Жилин всю неделю по вечерам, в свободные часы днем, скрупулезно изучал карту региона и лоцию Ленского бассейна. В это утро он не ушел отдыхать в каюту после ночной смены, а остался в рулевой рубке, наблюдая за тем, как действуют капитан и команда, отчаливая от берега, разворачивая связку теплохода с баржей в стесненных рамках акватории и направляя ее в русло фарватера. Четко выполняя команды капитана, опытного шестидесятилетнего речника Семена Степановича Богатырева, рулевой матрос направил судовую связку к выходу из порта.
– Молодец, – похвалил капитан рулевого. Обернувшись к Жилину, стоявшему за его широкой грузной спиной, он совсем не командирским, тихим и мягким голосом произнес: «Ну вот, Валерий, поздравляю тебя с твоей первой ленской навигацией. С Богом, паря, с Богом!» Он улыбнулся во все полнощекое, доброе лицо и направил свой взор на воду.
Теплоход уходил в далекий рейс вслед за льдами вскрывшейся реки. Ленская флотилия начинает навигацию в начале мая и завершает ее в осенний октябрь, когда приходится пробиваться домой через снежно-ледяную кашу и молодой лед. Экипажу «Яны», приспособленному к буксировке несамоходных барж, предстояло весь летний сезон отработать по маршруту Усть-Кут – Ленск. Этот тысячекилометровый путь на Лене – самый сложный. Таежная красавица сколь величественна и обворожительно во все времена года, столь она и своенравна и опасна для судоводителей в бурное половодье. На отдельных участках в большую воду скорость течения доходит до десяти и более километров в час. На маршруте немало коварных мест. Возьмем ту же «Чертову дорожку», где река трижды выделывает такие крутые коленца, что только успевай выруливать по створам то сюда, то туда, балансируя на упрямой стремнине, готовой бросить судно либо на мель, либо на скалистый мыс. Не легче править капитанам что одиночным теплоходом, что судовой связкой из буксира и баржи, в пресловутом Токуйском колене. Того и гляди, чтоб не подставило оно тебе подножку! В горных прижимах Ленских щек вообще держи ухо востро и не спускай глаз с тугой хребтины потока, готового расшибить вас о гранитные стены ущелья. Река веками точила себе проход в этой гигантской скалистой горловине. И по сей день, особенно в половодье, она кипит, всеми силами бьется о неприступные берега, пытаясь расширить свое пространство и избавиться от теснины гранитных оков. При большой воде глубины реки достигают в районе Ленских щек десяти и более метров. Словно стиснутая двумя гигантскими ладонями коварного исполина, Лена мечется от уступа к уступу и, освирепев от борьбы, вырывается наконец из жестких объятий скал на широкий простор, усмиряет свой бег, свободно разливаясь по широкой долине. Спокойней становится и на душе у капитанов, миновавших «щеки». С этой минуты можно полностью доверить штурвал вахтенному помощнику и рулевому матросу, выйти на крыло капитанского мостика, глубоко вдохнуть, вдоволь надышаться воздухом, насыщенным свежестью реки и смолистым запахом тайги, этим, каким-то необычайно легким, ненасытным, сказочным ароматом и спросить себя: «Боже мой, да не сон ли это, не волшебное ли раздолье, шелковой дорожкой растелившееся перед тобой, серебром сверкающее и поглотившее всю голубизну небес?! Не чудо ли эти изумрудные берега, разноцветьем трав поросшие, волнами лесистых гор убегающие за горизонт? Эти необычайно красивые ели и березы, стройные, золотом стволов отливающие сосны, достойные кисти великого художника». Облокотившись на перила мостика, слушать, как гудят в сердце корабля моторы и гул их сливается с шумом винтов и всплесками воды, скользящей вдоль бортов. Просто стоять и наслаждаться тем, что ты видишь и слышишь. Ощущать себя первопроходцем, одиноко плывущим по этому божественному раздолью, сотворенному как будто только для тебя. Пройдешь сотни верст и увидишь две-три небольшие деревеньки. Всего-то. О цивилизации напоминают лишь буи и береговые знаки судового хода, встречные суда, или, очень редко, плоты и катамараны каких-нибудь заезжих путешественников.
Не сразу раскрывала Лена перед Жилиным разноцветную палитру панорамы, полотно которой растянулось на тысячи километров. Знакомство с ним состоялось не с красочных и солнечных картин, а с «невзрачного рабочего холста», каковым вполне можно было назвать прохладный хмурый день, с которого началось первое самостоятельное плавание Валерия. Пасмурное небо, серое одеяние гор с белыми языками снега на северных склонах и в глухих распадках, темная полоса воды, усеянная пегими от грунтовых наносов льдинами, – только это видел из рулевой рубки молодой речник. Экипаж вынужден был «сдерживать лошадей». С осторожностью шли все, кто был впереди и сзади, в кильватере «Яны». Построенные на местных судоверфях самоходные контейнеровозы, буксиры и баржи не имели в корпусах так называемых ледостойких поясов, что и заставляло капитанов избегать столкновений с большими льдинами.
– Не едем как надо, а крадемся, будто в тайге меж курумника ползем, – шутит капитан по этому поводу. Дожди и волнами поступающее с юга долгожданное тепло, растопили в горах Байкальского отрога снега, вскрыли реки и речушки. Взломавшая лед на Лене и ее притоках, большая вода в местах прибоя нагромоздила из него на берегах высоченные серо-бурые валы. Льдом наглухо забило боковые протоки. На всем протяжении вскрылись Витим и Мамакан. К устью Витима и поселку с одноименным названием подошли ранним утром. При слиянии с Леной ленту этого притока делит на два рукава остров Липаевский. Из переговоров с экипажами судов, подошедших сюда ранее, Жилин узнал, что за Витимом, ниже по течению, образовался большой затор и транспорт остановился. Ледяной тромб оказался очень обширным, плотным по всей километровой ширине водной артерии. Упираясь в ледовую пробку, река поминутно взбухала, угрожая выйти из берегов. Держась в отдалении от затора, на рейде Витима, стояло не менее полутора десятка разномастных самоходных барж, теплоходов и плавучий подъемный кран с буксиром «Капитан Воробьев». Над холодной водой тихо стелилась неравномерно перемешенная с дымом поселковой котельной кисея жиденького тумана. Решив стать под боком у острова, Жилин включил громкую связь, расставил по местам шкипера баржи, боцмана и матросов. Развернув связку, Жилин прижал состав к острову, насколько позволяла глубина, и поставил связку на якоря. Разбуженный грохотом якорных цепей, в рубку поднялся капитан. Поздоровавшись с рулевым матросом и Жилиным, позевывая и прикрывая полногубый рот широкой ладонью, он медленно обошел рубку, на ходу оглядывая в окна акваторию. Остановившись у двери и попросив матроса подать ему бинокль, Семен Степанович вышел на мостик. Все так же не спеша, по-хозяйски прохаживаясь, капитан то вскидывал бинокль к переносице и глядел куда-то вдаль, то, опершись животом на планширь бортика, оглядывал без бинокля ближнюю поверхность воды и плывущие по ней льдины. Между тем Жилин, довольный своим выбором, дал команде «отбой» и сел за стол, намереваясь внести запись отчета о вахте в судовой журнал. Едва он взял в руки авторучку, как в рубке резко распахнулась дверь и, с несвойственной для него поспешностью, с серьезным видом на лице, в нее вошел капитан.
– Валерий Иванович, быстренько снимайся! – хмуря лохматые брови, с тоном неудовольствия в хрипловатом голосе произнес он и, грузно ступая, прошел внутрь к своему креслу. Пожав плечами и захлопнув журнал, Жилин непонимающе бросил: «В чем дело, Семен Степанович? Здесь хорошая глубина, простор для маневра и остров нас от льда прикрывает».
– Подымай, подымай пары, потом разберешься! Поезжай вон туда, за второе русло, выше острова. А если не понял, то я объясняю: вода подымается и вот-вот по второму рукаву попрет лед полями. Устроит тут нам заваруху, в клещах зажмет. Угрюм-река, черт бы ее побрал, горазда на выкидоны. Понимаешь?
Жилин молчал. В голове у него сразу всплыл знаменитый роман сибиряка Вячеслава Шишкова и многое, что связано с содержанием этой книги, с рекой. Расценив замешательство своего помощника по своему, капитан жестким командным голосом продолжил: «Выполняйте, Жилин!»
Валерий поднялся из-за стола и прошел к микрофону громкой связи, чтобы огласить распоряжение шефа. Не прошло пяти минут, как зажужжали электромоторы подъемных лебедок, загремели в клюзах звенья якорной цепи, забурлила вода под кормой от гребных винтов – послушный машинам и рукам рулевого, состав двинулся вперед. Набирая обороты, связка «Яны» вскоре вышла на траверс устья. Вооружившись биноклем, Жилин глянул в долину Витима и понял: нюх матерого речника Богатырева оказался верным. Устье рукава было забито льдом «под завязку». Казалось, Угрюм-река сотворила там не затор из льда, а нагородила массивный ежово-корявый мост, монолит, сверкающий на солнце холодом рваной стали. Когда после обеда окончательно прояснилось и солнце вовсю заиграло на сломах льда нотами весны, из «угрюмого рукава» густым выбросом понесло в Лену все то, что Жилин видел утром в бинокль.
– Останься мы у острова, где я определился на стоянку – и нам, наверняка, не избежать бы ледовой ловушки и авралов, – думал молодой судоводитель. А воды Вилюя, распухшие от сброса водной массы из переполненного водохранилища Мамаканской ГЭС, все несли и несли по течению остатки зимы, наращивая и уплотняя ледяную плотину на Лене. Основная масса льда шла у правого берега, и, по примеру Богатырева, определившись с обстановкой, капитаны судов, один за другим подались вверх, избегая риска быть зажатыми льдами. Замешкались только на буксире «Капитан Воробьев», где при спешке порвали буксировочный трос. И пока его заводили заново, скуластый понтон подъемного крана вкруговую облепили бело-голубые глыбы. Кран оказался во власти стихии. Чтобы не помять себе борта и не повредить рули, экипажу буксира пришлось долго маневрировать в нарастающей ледяной россыпи, осторожно подбираясь к плавкрану на дистанцию, откуда можно было вновь подать буксировочный канат матросам зажатой платформы. Богатырев неотрывно наблюдал за усилиями экипажа «воробьевцев», осуждая в сердцах капитана, по вине которого плавкран оказался в такой ситуации, в ловушке, подобно рыбе, угодившей в плетеную корчагу. Не без основания сердился и досадовал на капитана, своего ученика и давнего друга Геннадия Юрзина Богатырев. Еще утром, когда они с Жилиным снимали с якорей свой состав, Семен Степанович связался по рации с Юрзиным и посоветовал ему: «Пока тебя не приперло, сматывай оттедова удочки, уходи подальше». Однако Юрзин отвечал: «Даже если лед из витимского рукава дуром повалит, в обилии попрет, что сомнительно» – утверждал он, – «то Лена потащит его правым берегом, к нам ничё не приплывет».
Но все получилось наоборот. Вода в Витиме выше всяких прежних отметок поднялась, превратила русло реки в тугой водно-ледовый поток. На всем протяжении эта лавина устремилась к устью, затопив наполовину остров Липаевский и, будто пробку из шампанского, выбив из узкого рукава и выбросив его до середины Лены. Ситуация усложнялась. Из-за угрозы быть затертой ледоходом, флотилия бросила якоря выше поселка по течению реки, где суда рассредоточились вдоль берегов, ожидая благоприятных перемен. Вблизи затора оставались только плавучий кран и буксир «Капитан Воробьев», пробивающийся к нему. С досадой наблюдавший за тем, с какими сложностями столкнулись «воробьевцы», пробивающиеся к плавкрану, Богатырев готов был сам отцепить буксируемую «Яной» баржу и двинуться на подмогу другу. Однако его сдерживало то, что корпус теплохода не был снабжен ледостойким поясом и «бодаться» с льдинами при тонких бортах, считал старый речник, – все равно, что биться головой о бетон. «Запросто пробоину схлопочешь. Что же это такое, неужто у всех тут слабенькие корпуса?» – раздумывал он. «Иль может в штанах у мужиков кое-что зажало?». Его бинокль тщетно шарит по ряду судов, рассредоточившихся по акватории.
– Подожди-ка, подожди-ка, никак «Тимирязев» оборачивается? – вслух отмечает он сам себе. Точно, рулит к плавкрану, – мысленно убеждается он. – Слава Богу, двое не один. Теперя управятся, выгребут! – удовлетворенно заключает капитан.
Почувствовав, между тем, что в одних трекошках и тапочках на босу ногу ему на открытом воздухе не очень комфортно, Семен Степанович направляется в рубку. По ходу пробежав хватким оком по панели приборов, повесив бинокль на отведенное для него место, коротко бросив заступившей на вахту смене: «Внимательней следите за обстановкой», – капитан отправился в каюту с намерением отогреться и попить горячего чая.



