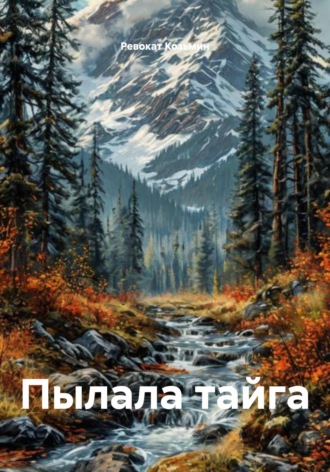
Полная версия
Пылала тайга

Ревокат Козьмин
Пылала тайга
Часть 1
Мы с хозяином неторопливо допивали чай. Морозными новогодними блестками искрился за окном погожий сибирский день. Селивановка просыпалась и приводила в порядок житейские дела после затяжного снегопада. Я напросился к Страховым на короткий постой, так как в Селивановке к тому времени гостиница была закрыта и выставлена на продажу. Еще по нашей первой вечерней беседы я понял, что в местной администрации мне не случайно рекомендовали познакомиться с Антоном Савельичем. Теперь я видел, что за всей простой мужиковатостью моего собеседника кроется его внимательное и умное восприятие того, что окружает Страхова, его способность быстро и точно реагировать на ту или иную ситуацию. Прирожденная мудрость, жизненный опыт и пусть даже заочное, но полезная учеба в Иркутском сельхозинституте, сформировали в нем неординарного руководителя, в которого сам по себе вырос тракторист Антон Страхов. За проявленную активность в сплочении бригады и деловые, толковые выступления на собраниях колхозников, его избрали вначале депутатом сельского совета, а затем с преобразованием села и поселкового совета, а впоследствии доверили ему должность председателя и на этот пост он избирался ни один раз. Родившийся в Селивановки Антон Савельевич был ее кровной составной, ее пульсом, душой и сердцем.
– Слава Богу, кажись улеглось, – говорит старик, нарушив молчание, и ставит большую фарфоровую кружку на стол. – Язви ее, метет и метет, конопатит, и конопатит, – продолжает он. Ведь в любую щелку залезет, зараза. Бывало закупоривало и трубу, – хозяин поворачивает голову в сторону большой, известью побеленной печи традиционной русской кладки. Если день печку не топить – трубу снегом забьет по самую заслонку.
И пошто-то большей частью по ночам все происходит. Утром, понимаешь, без лопаты к туалету не пробиться, – прищуривая глаз под седеющей седой бровью, дед Антон смотрит в окно, за которым белым-бело раскинулось привольное, блестящее на солнце серебряное снежное раздолье, прикрывшее под собой ледяной панцирь Тунгуски. На краю этой широкой полосы, на том берегу реки, щетинистым взгорьем взбежала к самому небу да замерла, опаленная студеными ветрами, древня тунгусская тайга.
– В ум не могу взять, как это наши предки из Руси сюда, не ближний свет, пехтурой, на своих двоих добиралися. Ох, далековатенько шагать им приходилося, возьми, с Бела моря или от Волги. Представляешь, сколь одних обуток и штанов истрепать надо, штобы через чащобу сибирскую, по каменьям и болотине пробираться. А взять моих дальних предков, дак тем ишшо при царице-матушке Катерине второй, после пугачевской смуты, в коей они и с боку-припеку, может, не гуляли и то власти принудили их с Дону перекочевать за Байкал, на Даурские земли. Мои предки, к примеру, поселились на реке Онон. У границы с монголами, на диком берегу засеки соорудили и станицу освновали, выстроили наблюдательные посты. Все чин-чинарем, как положено быть, сделали, стали обживаться, укреплять заслон от монгольских набегов. Несли службу справно, хозяйством обзоводились, подружились с кочевыми бурятами, которые немало страдали от бандитских налетов монгол и увидели в казаках надежных защитников. Считай, жили-не тужили, землю пахали, добро наживали и детей ростили. Проживали по своим казачьим устоям вплоть до другого большого восстания, октябрьского, в семнадцатом.
Тогда спасаясь от красных, с Запада к манчжурской границе бежал со своей гвардией атаман Семенов. Он хотел было пополнить ряды кавалерии ононскими казаками. Но те собрали свой круг, на коем дружно решили не покидать насиженных мест, служить Отечеству, стеречь и далее расейскую границу.
Не получилось, однако, все кувырком пошло-поехало. Новая власть вскорости ни за че, ни про че принялась зажиточных казаков раскулачивать. Под эту руку попали и мои молодые родители, своим горбом поднимавшие целиковый надел, надрывавшие пуп в лесу при заготовке бревен для дома, заводившие скотину и птицу. Комитеты отобрали у них и им подобных «кулаков из враждебного класса» все, что ими было нажито трудом праведным, поставили людей под ружье и погнали кого в ненецкую тундру, кого на рудники якутского Алдана, кого вот на Тунгуску. Мол, нате вам, кулачье такое-разэтакое, и чистую воду, и волю северных ветров. Так не всем ведь довелось попить нашей родниковой водицы. Многие не дошли до Селивановки, скончались на ходу. И не знамо, как захоронены по обочинам конского тракта. Когда геологи из Иркутска сюда потянулись, торную дорогу расширили. Но все одно, машиной по ей зимой токмо проехать можно – зимником. Его кажный год бульдозерами налаживают. Сказывал дед, отец моей матери по фамилии Трухин Марк – фу ты, отечество из головы выскочило! – оказавшись в глухой тайге, вконец изможденные долгим этапом, исхудалые, полураздетые, в рваной обуви или в тряпишных обмотках, ссыльные казаки все же духом не пали, не сломились.
Антон Савельич умолкает и достает из кармана пачку «Примы». Чиркнув спичкой, раскуривает сигарету. Яростно сверкнув взглядом, сквозь дым выпущенной затяжки, он восклицает: «Подумать только! Босиком сотни верст по тайге!»; и продолжает свой рассказ.
– Здеся, получив мало-мальскую поддержку местных властей и особливо от люда простого, они сызнова взяли в работящие руки плуг и топор. Ставили избы, тайгу корчевали.
Когда я с армии пришел, так за один сезон подошвы солдатских кирзачей по нашим хребтам под лысину сбил. Это еще при том, что у нас, понимаешь ли, какие-никакие дороги есть и по тайге всюду, куда не кинь, тропы натоптаны, – Антон Савельич крутит на столе жилистой рукой кружку с недопитым остывающим чаем. Загорелое под солнцем длинных летних дней, обветренное и обожженное стужей долгих северных зим, к старости изрезанное глубокими неисправимыми морщинами, лицо его казалось вконец задубелым, если бы не оживлявшие этот суровый облик быстрые и острые глаза, глаза таежника, не позволяющего себе расслабиться, всегда готового к любым неожиданностям, глаза охотника – зоркие, точные. Вышедший в пенсионеры, он основательно увлекся любительской охотой. Его больше интересовали не трофеи, а сама тайга. Неделями он мог жить в зимовье и бродить по тайге, не переставая восхищаться всем, чем матушка природа наделила этот край.
– Вот скажи мне, милый человек, стоило ли им, о ком я упомянул, биться за этот берег, целину пахать под пашню, да под луга-сенокосы, ежели счас все это бурьяном и кустарником зарастает? – пронзая меня прямым взглядом, спрашивает Савельич. Не готовый к такому повороту разговора, я задумываюсь, мысленно прикидывая, что мне по этом поводу говорить. Средь наступившей паузы в сенцах послышались шаги и чей-то кулачок постучал в дверь.
– О, кто-то ранний явился! – заинтересованно оборотился на стук хозяин. Не дожидаясь ответа, этот кто-то распахнул дверь и клубы белого холодного воздуха хлынули за порог. Следом его быстро переступила немолодая женщина, облаченная в светло-коричневую шубу, беличью шапку, белые меховые унты, расшитые бисером.
– А, так это Дарьюшка к нам пожаловала! Катерина, встречай сестру! Где ты там? – обрадованно воскликнул Савельич, резко поднимаясь из-за стола и отодвигая стул.
– Проходи, проходи, миленькая, а мы вот с гостем чаевничаем, как раз и тебя попотчуем московскими гостинцами, – Антон Савельич жестом руки показывает вошедшей на стол, уставленный яствами. Из комнаты в прихожую, переходящую в столовую и кухню, вышла Екатерина Васильевна.
– Ты раздевайся, раздевайся, с мороза-то, – обнимая сестру, предлагает Екатерина. С гостем познакомишься. Журналист из Москвы, – застенчиво, но с оттенком горделивости в голосе, говорила хозяйка. Дарья смущенно кивнула в нашу сторону. Я привстал, поздоровавшись.
– Нет-нет, спасибо! – засмущавшись еще явственней, торопливо отвечала Дарья. В следующий раз! Меня машина ждет! – она вскинула руку в сторону улицы. Уезжаю в район. Катя, я ведь на минутку забежала, хочу тебя попросить присмотреть за моим домом. Епифан в тайгу с геологами уехал, а я в район по делам хочу съездить. Вернусь поздно, сама понимаешь. Ты уж, пожалуйста, протопи у меня к вечеру печку, не то к ночи в избе выстынет. Заодно животинку покорми. Сможешь, или очень занята? – Дарья сжимает руку сестры.
– Что ж не смочь то, не впервой, небось. Приготовлю обед своим (она смотрит в нашу сторону) и к тебе сбегаю, – заверяет хозяйка. – Поезжай с Богом, не волнуйся. Управлюсь, чё уж там! – она решительно кладет свободную руку на плечо сестры, которая все еще сжимает в своей руке левое запястье Катерины.
– Ну, так я поехала, машина ждет, – говорит Дарья, бросая недолгий синеокий взгляд в нашу сторону. И не успели мы с гостьей попрощаться, как она, кивнув головой, повернулась и вышла из дома.
– Как теперя говорят, настоящей деловой женщиной наша Дарья оказалась, – отмечает Антон Савельич. Не гляди, что без мужика живет. Она одна, почитай, да ешшо нонешний глава нашего поселка Жилин, воюют за Селивановку. Все пытаются хозяйство поднять и порядок навести в лесозаготовках. У нас же крупный лескомбинат был, совхоз лучший в районе. Оно все и там и тут рассыпалось, как трухлявое дерево от ветров в непогоду. Хочешь – обо всем расскажу и обо всех?!
– Затем и приехал… Так почему одна? А Епифан? Кто же он такой? – перебиваю я Савельича.
– Ладно, начну с его. Епишка – это её, так сказать, приемный сын. А мужика ее в ельценское лихолетьё бандиты убили. Это когда дербанили наш лескомбинат и совхоз. Что касаемо Епифана, то его наши пацаны натурально в реке изловили. Оказалось, малец родом из тунгусов. Сначала он жил у нас, но посля его Дарья у себя пригрела. У нас с ним целая история. Но ничё, вырос парень, в армии теперя уж отслужил. Да токмо меж собой все его до сих пор тунгусенком зовут. Может быть и мимо нас вода протащила бы его, ежели бы не ребятишки, рыбачившие в то утро. Кто-то из них увидал плывущую по течению перевернутую плоскодонку, а на ней пацанишку. Дети заорали, побросали удочки, забегали по берегу. Старшим среди них был мой Пашка. Молодец, не растерялся, прыгнул в нашу казанку, завел мотор – и к лодке. Пловцом по неволе оказался тунгусенок, Епифан, значит. Мокренького, еле живого притащили его ребятишки к нам домой. Удивились, как вопче не околел. В Тунгуске и летом вода шибко не прогревается, а выловили мальца после Ильина дня, в охладевшей реке. Катерина неделю выхаживала приемыша, но сколь не пыталась, так и не смогла добиться от него ответа – как он один оказался на воде. И только когда соседка наша, секретарша поселкового совета, подключилась к расспросам, Епишка сбивчиво рассказал о том, что их семья сплавлялась в сторону Верхнего Волока – это наш районный центр. А почему, каким образом, лодку их перевернуло и в живых остался только он один – мальчишка объяснить не мог. Долго выяснявшая через районную власть из чьего же рода-племени мальчуган и не добившаяся результата, наша администрация решила отправить сироту в детский дом. Откинувшись на спинку стула и раскуривая сигарету, Савельич неторопливо продолжает начатый рассказ, а я записываю сказанное на диктофон, чтобы изложить услышанное на страницах моего повествования.
Итак, обогревшая и откормившая спасенного, Катерина наотрез отказалась отдавать пацаненка, несмотря на то, что у самих в семье насчитывалось, что называется, «семеро по лавкам». Дети у Екатерины были послушными, одетыми и обутыми, к хозяйским делам приученные. Антон Савельич работал на лесоповале трактористом трелевочного трактора и приносил домой хорошие деньги. Катерина не могла, в виду полной занятости делами по дому, пойти куда-то на постоянную работу. Она говорила: «Моя забота – шить, варить, да стирать до седьмого пота.» В доме имелась доставшаяся ей от бабушки старинная швейная машина «Зингер» и по вечерам, урывками днем, Екатерина постоянно что-нибудь строчила – то платьишки и рубашонки своей пацанве, то по заказу соседям сарафаны или наволочки для подушек. Епишку она обшила с ног до головы. Благополучно прижившийся в большой семье, мальчик вскоре настолько слился всем своим непосредственным детским существом с новыми братьями и сестрами, что, наверное, основательно забыл о своей тунгусской семье. Он вместе со всеми помогал приемной матери убираться по дому, гонять на водопой корову и овец, чистить в курятнике, подносить дрова от поленницы в дом. Его особенно тянуло к лошадям. Стоило, скажем, Павлу заняться упряжью, чтобы оседлать сивого к поездке на дальний выгон, где подходила очередь Федуловых пасти общественное стадо, как Епишка, будто кто его за ниточку дергал, тут же бежал к брату, хватал уздечку или цеплялся за подпругу седла, делая вид, что тоже помогает Павлу оседлать коня.
– Отойди, Епифан, не лезь к лошади под копыта, – отталкивал малыша Павел. Зря тебя спасал чё ли? Вот лягнет, вдарит в лоб случаем – и закроются твои зевалки. Чё опосля скажут мне родители? Да и тетка Даша не похвалит. Вон она тебя как привечает! – Пашка улыбается и ласково треплет Епишку, запуская пальцы в его густые черные волосы.
Дарья, родная сестра Екатерины, жила на ту пору одна. Екатерину и Дарью мать вырастила без мужа. Скромными и статными выдались девки, обличием приветливые и красивые. Десятилетку окончили одна за другой. Дарья в Иркутск уехала, в кооперативный техникум поступила, учиться на товароведа. А Катерина осталась в селе, замуж вышла – Федуловы просватали, у которых Антошка в ту осень из армии пришел. Пока Дарья училась – Екатерина с Анотоном приумножали род Федуловых. А род Зуевых, которые должен был продлить Иннокентий, отец Дарьи и Екатерины, на них и обрывался. Младшего офицера запаса Иннокентия Зуева призвали на военную переподготовку и увезли в Украину. Полагалось, что гармонист Кеша, он же заведующий селивановским клубом и ведущий музыкант, уехал не надолго, но получилось – насовсем. Два, три ли письма он все же прислал. Писал что служится ему хорошо, что его сразу зачислили в музыкальный взвод и что кроме военной подготовки они еще и ездят по селам, дают концерты для местных жителей, с которыми сибиряки очень подружились.
– Часто выступаю сольно, – не без гордости сообщал Иннокентий. Но и, видно, навыступался Кеша, зацепился где-то ремнями своей гармоники за украинку в кофте-вышиванке, запутался в ее тесемках. По всем нотам зацепился! В последнем письме сообщил, чтоб не ждали и попросил у жены развод. Так что сестры Зуевы росли без отца, увела хохлуша сибиряка.
Дарья техникум закончила, в госпромхозе должность получила и тут же замуж вышла за местного сверстника Тихона Кузнецова. Первым парнем на деревне слыл этот высокий, ладной фигурой выделявшийся, красивый лицом, кучерявый молодой мужчина, прошедший службу в военно-морском флоте на Тихом океане. Со школьных лет они дружили, когда Тихон служил – переписывались и обменивались фотографиями. Вернувшись домой, Тихон сделал Дарье предложение. Все село гуляло на свадьбе этой самой завидной пары. Служивший мотористом, Тихон устроился на дизельную электростанцию Селивановки по своей специальности. Дарью он привел в добротный родительский дом, срубленный отцом из отборных сосновых бревен. Сам себе архитектор и плотник, Василий Кузнецов отец Тихона не только как следует, на каменную основу поставил сруб, но и любовно украсил дом по карнизу крыши кружевом из дерева, живописно очертил такой же вязью все окна и входные двери в сенцы. Тихон его не помнил и никогда не расспрашивал о нем у матери Лидии Ильиничны. По семейным фотографиям и от соседей он знал, что отец был мужиком недюжинной силы и привлекательной внешности. Мастерством своим гордился и, если брался за дело, – забывал об отдыхе и еде. Смолоду терпеть горькую и на нюх не мог. Только когда Тишка родился – сманился на радостях отметить с друзьями рождение сына. Потом на шабашках позволял себе пропустить по сотке-другой за хороший исход работы. Дальше – пошло, поехало. Отчего, люди говорят, он и погиб в тайге на лесозаготовках. Один из его дружков, Борька Гурьянов, рассказывал: «Намедни, перед случившейся бедой, он, Василий, все какой-то чудной ходил, вовсе не веселый. Задание мастера не выполнил, полдня у костра просидел, угли палкой проворочал. Чё, говорю ему, хочешь на выговор нарваться, или думашь сидням нынче премии дают?»
– Да ничё я не думаю, – бурчал он. – Токмо, вот тут, в душе какая-то жаба поселилась, ничё ни охота делать.
В ужин мы с им в нашем балке по-маленькой царапнули и за «дурочка» сели. Я его двурядь прокатил в карты. На третий заход он мне ни с того, ни с сего выдает: «Борька, вот мы с тобой по дурости своей все валим и валим тайгу. А ведь она, кажное дерево – живые. Послушаешь иной раз, вроде нонешнего, сидя у костра, и услышишь, как стонут дерева-лисины от наших пил. Соображашь, стонут, страдают. Я понимаю, когда лес, природой нам данный, деловой, созревший лес для надобности берется, для дома, скажем, и крыши, – то это дело иное. Его, как другой какой-нибудь плод, надо зрелым брать. Перезреет, упадет и сгниет – никакого проку. Мы тоже свое отживем и в землю умостимся. Только человек-то продолжает жизнь в потомках, а лес в молодняке, который мы тоже часто ненароком губим. По-людски-то следовало бы взамен одного срубленного дерева посадить два-три ли саженца. Счас то я нигде не вижу такого. Валим и валим все подряд по всей Сибири. Так-то. Кубометры, знаешь ли, набираем. Чё получше – за бугор эшелонами гоним. Отсев штабелями на делянах оставляем, все в прах переводим, в гнилье. Боженька нас, поверь, не помилует за то, что так тайгу обезобразили, накажет. Ежели не всех, так самых грешных, кто этим безобразием ворочает сверху. Ой, как воздастся им!» – с этими словами он сгреб карты в кучу, прихлопнул колоду ладонью и, не снимая верхней одежды, завалился в постель. Долго чё-то ворочался, бурчал недовольно. Затем повернулся к стенке, громко так заявил: «Борька, вот, не дай Бог, вообще-то, но ежели вдруг, меня, положим, поперед тебя лесиной пришибет, сваргань из её, родимой, крест на мою могилу. Слышь, это я тебя, как друга прошу?» – сурьезно ко мне обратился, честное слово даю, важно так разглагольствовал, – рассказывал об этой роковой исповеди друга Борька Гурьянов. Оказывается утром следующего дня, работая на деляне, Василий, как подобает лесорубу, подрезал бензопилой толстую сосну под нужным углом с одной стороны, делая тем самым своеобразный выем, чтобы дерево падало именно в этом направлении, затем обошел его и с другой стороны пропилил ствол почти насквозь. Убрав пилу, Василий взял в руки длинный шест и, упершись в дерево, стал его валить. Протяжно скрипнув, сосна медленно, словно с нарастающим грудным стоном, начала падать. Василию следовало бы либо сделать несколько шагов назад и отойти на безопасное расстояние, либо уйти в сторону – влево, вправо ли. А он, бросив шест, почему-то побежал вдоль падающего дерева. Снег был глубокий и Василий бежал скачками. Сосна, заваливаясь и сбрасывая с себя, как спросонья, залежалое снежное покрывало, цеплялась за соседнее дерево ветвями широкой кроны, с треском ломая его и свои ветви, поднимая густое облако белой пыли. Словно снаряд, пущенный из боевой пращи, обломок толстого сука со свистом полетел в сторону Василия и тупым страшным ударом обрушился на опешившего лесоруба. Тот успел только вскрикнуть и вскинуть руки вперед, словно пытаясь отмахнуться или оттолкнуть от себя что-то. Но в тот же миг, как подрубленный, Василий рухнул в снег навзничь. Все произошло на глазах у остолбеневшего Бориса, готовившего неподалеку бензопилу к работе. Когда он понял, что произошло что-то ужасное и, не помня себя, прибежал к товарищу, Василий был еще жив. Его загорелое обветренное лицо было покрыто крупным потом и каплями растаявших снежинок. Закуржавевшая на морозе от инея, борода была белой, казалось, вмиг поседевшей, а большие голубые глаза недоуменно смотрели в небо. На спину упавший, Василий лежал неподвижно, подогнув под себя левую ногу и широко раскинув руки. Досмерти напугавшийся, растерянно озирающийся по сторонам в надежде увидеть кого-нибудь и позвать на помощь, Борис нагнулся над Василием, в нерешительности протягивая руку к его лицу и заглядывая в глаза друга.
– Вась! Чё это ты так-то? – наконец выдавил он из себя. Поборов оторопь, Борис ухватился обеими руками за телогрейку друга и попытался его поднять. Василий оказался настолько тяжелым, что Борису с трудом удалось усадить его в снегу. Но стоило Борису разжать свои руки и отпустить друга, как тот вновь валился на спину. Подложив под голову Василия валявшуюся рядом шапку, выправив ему подогнутую ногу, Борис решил бежать на участок за подмогой. Когда с мастером участка и двумя лесорубами они прибежали к месту происшествия, Василий уже не дышал. Тело его было неподвижным, руки по-прежнему наотмашь раскинуты, на волосатом подбородке и в уголках губ, в раковинах ушей струйки застывшей крови, взгляд угасших глаз безразлично обращен к верхушкам деревьев, к холодному зимнему небу.
Часть 2
Выросшие без отцов, Тихон и Дарья, сами того не осознавая, отдавали один другому всю нежность чувств и ласку, которых им так недоставало в детстве и отрочестве. Казалось, что вся их жизнь превратилась в один медовый месяц, затянувшийся на годы, где каждую ночь, проведенную вместе, они ощущали как один чудный миг, как один горячий, страстный поцелуй. Лидия Ильинична не могла наглядеться на их счастливые лица. Она радовалась, что Тихон и Дарья безоглядно любят друг друга, что они живут душа в душу и неразлучны повсюду. Стоит одному из них чем-нибудь заняться, как второй уже тут, рядышком и соображает, чем он может помочь. Это чувство проявлялось особенно у Дарьи. С детства привыкшая наровне с матерью управляться с домашними делами, Дарья с настроением наводила порядок в доме своей новой семьи, стирала и чинила мужу его пропахшую соляркой рабочую одежду, любила порадовать его и свекровь каким-нибудь вкусненьким блюдом, сама доила корову и кормила кур. Когда Тихон видел что жена, стремясь пожалеть престарелую свекровь, загрузила себя «по самую маковку», то немедля включался в этот бытовой процесс: помогал, когда требовалось, замесить квашню или слазать в погреб за капустой, картошкой, помыть посуду или, сказать по-флотски, пошвабрить полы. Не все действа сына Лидия Ильинична одобряла. Выросшая в деревенской среде, воспитанная на ее устоях, мать была твердо убеждена, что муж и жена друг другу все же в делах не ровня, поскольку каждый из них должен строго знать и исполнять свои семейные обязанности. «Поэтому ты, Тихон», – говорила она как-то за ужином, – «не должон мыть посуду и полы». На что сын отвечал ей: «Мам, если на квадратные метры перевести, то на корабле я за всю мою службу, пожалуй, продраил шваброй не одну тысячу метров палубы и ничего!»
– То в армии, сынок, там служба военная и обиход, что у солдат, что у моряков одинаковый – служивый. А дома негоже мужику с кастрюлями и тряпками возиться, – в тоне упрека твердила мать. – Так и тебе Дашутка, неслед мужицким делом загружаться. Я к тому, – поясняла Лидия Ильинична, – чтобы ты, Тихон, не садил ее более за руль мотоцикла. Не надо, считаю, женщине гонять на скоростях по нашим ухабам, да свое нутро растрясать. Жену следует беречь, к материнству готовить, а не устраивать ей растопырку на жестком седле. Куды не шло, ездить в коляске: сиденье мягкое, сзади под спинкой подушка, ногами удобно опираешься. Я правильно рассуждаю, Даша? – обращается к невестке свекровь.
– Может быть, вы и в чем-то правы, но представьте, что когда-нибудь вдруг понадобиться срочно куда-то съездить, скажем, по делу или к врачу, а Тихон будет на работе. Кто же тогда повезет вас? Автобусная остановка далеко и при том нет никакой уверенности в том, что наш драндулет завалющий вышел на линию, а неотложку из райцентра вряд ли дождешься скоро. Уж лучше свой, какой-никакой трнспорт иметь всегда при себе, – парировала невестка. К тому же, – добавила она, – Тихон собирается нынче поступать на заочное в институт. Если поступит, будет уезжать на сессии в Иркутск и нам с вами придется хозяйничать одним. Так что, мама, без своей драндулетки нам никак не обойтись. Ну, никак!
– Тихон, а ты чё же матери не говоришь о намерении своем? – Лидия Ильинична оборачивает просветлевшее лицо к сыну. Тихон смущенно пожимает плечами.
– Обрадовала ты меня, Дашенька, обрадовала. Учиться надоть. То как же, ты с образованьем, в городу жила и училась, а Тихон только десятилетку кончал у нас тута. Пусь учится. Вон Гришка Паршин на ижинера выучился. При мне в магазине Прасковья хвасталась, евонная мать. Но вы же ее, как облупленную знаете, энту скандалистку и матершинницу. Так вот, сказывала она, ну и нам всем тоже извесно, что Гришка ейный в Иркутске плотником промышлял. Оказывается, мы все зря его непутевым обзывали. Прасковья грит: «В городу он вовсе не пьянствовал и по девкам не шастал вечерами, а науки разные в иституте изучал. Теперя, баит, документ ижинера получил, диплом значит. Дали ему и должность. Язви её, точно не могу назвать, но чё то вроде испектора. Стало быть, не машет Гришка теперя топором, бревна не отесыват, в катанках и ватнике не ходит, а за другими надзор чинит и на лехковушке по городу разъезжат, – пересказывает Лидия Ильинична сообщение сарафанного деревенского радио и умолкает, задумавшись.



