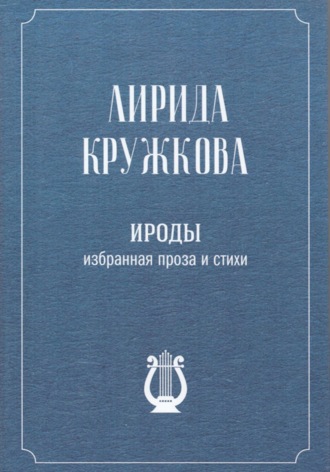
Полная версия
Ироды
С этой досадой и ушла из собора. И только к вечеру, когда неловкость и стыд кое-как улеглись, Вилена Петровна подумала: “Ну ничего, ничего, не надо расстраиваться. Может, Дева Мария даже и улыбнется на мою глупость…”
2017 год
Звездный час
Валерий Николаевич уже давно стоял на дорожке, окаймлявшей школьное футбольное поле. На нем был новый тренировочный костюм и кеды. Пока его внучка Натка училась кататься на велосипеде, он смотрел, как играют в футбол мальчишки из соседних домов. Забывшись, невольно повторял движения игроков, и со стороны было забавно смотреть на полного, немолодого мужчину с большим животом и очень редкими волосами на макушке, который время от времени смешно взмахивал руками, чертыхался, приседал, двигал плечами.
Если бы не жена, которая пилила его уже много дней, что одна только Натка из всего дома не умеет кататься, он бы ни за что не оказался здесь.
В глубине души он завидовал этим парням. Ему самому хотелось побегать по сырому еще от весенних вод полю, постучать по мячу, ощутить азарт игрока. Хотелось очень. Но он не представлял себе, как это осуществить. Как подойти и что сказать ребятам. Да и все окна четырнадцати этажей их дома смотрели на поле.
Это желание представлялось нереальной мечтой, жизнь прожитой. Никогда он уже не сможет так беззаботно бегать, падать, бить по воротам, спорить, доказывать. Теперь только стой тут, да смотри, как другие играют, а ты уже отыграл. Он ощутил горечь в душе от сознания невозвратности силы, молодости. Да и много ли он играл тогда? Отец погиб на фронте, мать болела, младший брат учился. Валерий Николаевич вспомнил, как он работал на бумажном комбинате, таскал тяжелые тюки с отходами, а вечерами учился. Уставал ужасно. Потом втянулся. Окончил школу, институт, защитил диссертацию. внучке уже пять лет. До игры ли было?
И теперь он с завистью смотрел на раскрасневшихся, потных ребят, которые не замечали его. Он бы им показал класс. И Валерий Николаевич представил себе, что бы он выделывал с мячом, как бы его подбрасывал, ловил носком, потом опять подбрасывал, принимал на голову, и так без конца.
Вдруг мяч полетел прямо на него. Валерий Николаевич вздрогнул, сердце ёкнуло, кровь бросилась в лицо. Вот он его звездный час. Настал.
От неожиданности он не сумел быстро отреагировать, и мяч покатился дальше. Валерий Николаевич неловко повернулся и побежал за ним. Не заметив косогора, отделявшего футбольное поле от баскетбольной площадки, он начал падать, делая неестественные скачкообразные шаги, взмахивая неуклюже руками, вытянув вперед шею, чтобы сохранить равновесие. Все-таки удержаться не смог, упал.
Отчаяние и стыд захлестнули его – показал класс. Хотелось провалиться сквозь землю, исчезнуть. Он видел, чувствовал, что пацаны стоят, смотрят, может быть, смеются. Да, конечно, смеются. Тут он услышал: “Кончай ночевать, дядя!”
Валерий Николаевич подавил боль и обиду, рывком поднялся, не поднимая головы, посмотрел на ребят – стоят, ждут.
Медленно, потом быстрей, быстрей побежал за мячом. Тот уже лежал, покачиваясь в лунке. Валерий Николаевич носком кеды выбросил его и повел к полю. Он чувствовал, как с каждым прыжком стряхиваются с плеч тяжелые годы, возвращается уверенность в себе, бег его становится упругим, ловким, наливаются мышцы. Наконец, оценив расстояние, он размахнулся и ударил по мячу. Мяч взлетел и со свистом понесся к игрокам. Валерий Николаевич с гордостью следил за ним. Ребята подхватили его, и игра снова завертелась.
А Валерий Николаевич отдышался и уже не смотрел на поле. Он ходил туда и обратно по дорожке, вспоминал подробности своего удара и, глядя под ноги, чему-то счастливо улыбался.
1975 год
Молоток
Баба Шура расплатилась, проводила ребят, закрыла калитку и села отдохнуть на лавку возле кухни.
“Хорошие эти ребята – таджики, – думала она, – сколько мне всего сделали! Вот считай: на прошлой неделе траву покосили, полку прибили, кран на кухне починили. “
Она вспомнила про Толю. Это их местный умелец. Попросишь его прийти, отвечает: “Я на стакане.” Значит, запил. А если не на стакане – придет и сделает, что попросишь. Так Толя несколько часов с этим краном возился: “Не пойму, почему, блин, текёт? Текёт и все, блин! “ Мужик-то он неплохой, но уж больно сквернослов: ведь вместо “блин”, как говорит молодежь, по-русски режет. Да то и дело её столовым ножичком чешет свою потную голову. Тьфу, пропасть. Так и не починил кран-то.
А таджики за десять минут починили его. И теперь он совсем “не текёт”.
Таджики тут на дачных участках подрабатывают: кому покосить, кому вскопать, а деньги домой отсылают.
Баба Шура их иногда расспрашивала об их жизни на родине после развала Союза. Интересно, как женщины теперь там одеваются. Один из ребят, который лучше других говорил по-русски, сказал: “Одеваются, как ты, а у кого совест ест, – вот так” – и указательный палец положил на запястье другой руки. Значит, с длинными рукавами ходят – это у кого совесть есть. Вон оно как…
Баба Шура посмотрела на печку – трубы нет. Теперь с крыши ничего не течёт. Осенью будет, конечно, холодновато, но у неё электрическая плитка “Мечта”. Они с дедом её лет тридцать назад покупали. Хорошая плитка, беленькая.
Деда уже два года как нет. И все стало потихоньку разваливаться. То дверь перекосило, полка упала, щепок для печки некому настругать. То крыша потекла, то мыши проводку обгрызли, и чуть пожар не случился. Хорошо таджики каждый день к калитке приезжают на велосипедах и просят работы.
Слава Богу, и провод починили, и трубу сняли. Этот Хуршет (или как его там) говорит: “Турбу я сняла, течь не будет.” А потом, когда починил проводку, сказал: “Теперь можешь включать мешта”.
Баба Шура заволновалась, задергалась: какая мешта? У неё нету мешта!
Тут Хуршет показал на плитку. “Ах, – обрадовалась баба Шура – это ж “Мечта”, наша с дедом плитка! “
А когда Хуршет стал забивать в кухне дырку от трубы на потолке, он взял дедов молоток, такой жёлтый с красной полосой на ручке. Дед его очень любил. Говорил, что он хорошо лежит в руке.
Баба Шура проводила ребят и стала искать молоток. На кухне нет, всё просмотрела, на лавке нет, в дом они не заходили. По участку, у колодца – нигде нет! “Куда ж я его засунула?”
До самой темноты она искала молоток. Раздвигала руками траву, смотрела в кустах, за домом и за кухней, хотя кто сюда мог его закинуть… Нет, и всё тут!
Темно, надо бы поужинать да идти спать. Баба Шура села за стол, суетиться не хотелось.
Она помнила, как они с дедом прожили вместе 57 лет, как они познакомились, как ехали из ЗАГСа на трамвае, стоя на задней площадке вагона, и всё, всё, всё… Он был неласков, только однажды, выпивши, сказал заплетающимся языком: “Шурок, ты у меня лучше всех!” И она до сих пор это помнит.
В последний раз она видела его в больнице. В палате было ещё трое мужчин. Было жарко и душно. Он лежал по пояс голый, красивый, широкоплечий, с синими-синими глазами и всё смотрел на неё. Говорить он не мог, чуть могла двигаться левая рука. И он старался дотянуться до её щеки.
Она сама наклонилась и легла щекой в его ладонь, обняла его, сильного, красивого.
Под вечер ему стало трудно дышать, его повезли куда-то… Она бежала рядом с каталкой по длинному коридору, испуганная, и уже не скрывала слёз, а он всё смотрел и смотрел на неё.
Прошло два года, а она всё видит его родные синие глаза. Тихонько всхлипывая, глядя в тёмное окно, баба Шура зашептала: “Васенька… Где ты?..”
И, помолчав, добавила: “А я вот твой молоток потеряла… Завтра опять поищу…”
2019 год
Короткая командировка в Минск
Имея в виду мой опыт работы на выставках – а у меня есть даже медаль участника ВДНХ – российско-китайское акционерное общество “Бинмэкс” пригласило меня принять участие в организации и проведении выставки китайских промышленных и продовольственных товаров в Минске, где “Бинмэкс” имел целью наладить коммерческие связи с местными потребителями.
Выставка проводилась с 6 по 18 декабря 1992 года. И вот в начале декабря я в поезде, направляюсь в Минск. На все смотрю с большим интересом и удивлением, так как в последнее время не приходилось много путешествовать: и билеты дорогие, и привычные южные маршруты отпали из-за невероятных, немыслимых несколько лет назад событий, превративших всеми любимые и желанные курорты в арену боевых действий.
Поразило явное падение культуры, выражавшееся и в поведении моих попутчиков по купе – двух молодых людей, парня и девушки, судя по их разговору, недавно познакомившихся, однако плотно прилепившихся друг к другу и которые, не стесняясь моего присутствия, принимали позы, какие печатаются в известных изданиях, и в странных небритых лицах с подбитыми скулами, то и дело заглядывавших в наше купе, и в жалком виде группы молодых людей со шприцами, вывалившихся из туалета, и в других горьких мелочах, которые замечал мой удивленный взгляд.
Но все это ушло, забылось, как только поезд прибыл в Минск. Здесь я была четырнадцать лет назад. В те далекие времена на одном из заводов мы, московские разработчики, вместе с ребятами из Ленинградского университета отрабатывали программно-аппаратную часть сопряжения дисплейного комплекса для вычислительных машин серии ЕС на опытных образцах, изготовленных в Минске.
И вот теперь я снова здесь. В это раннее утро город показался мне еще более красивым, чем тогда. Я узнавала улицы, переходы, здания. Конечно же он был мне знакомым и близким. Он светил мне теплым светом из моей молодости, полной творческой энергии и грандиозных планов, полной бессмысленных увлечений и ожиданий.
Теперь я медленно с улыбкой на лице иду под моросящим колким дождем. Признаюсь честно, в глубине души думалось, что по приезду обязательно натолкнусь на неприязнь со стороны местных жителей, которые сразу же распознают во мне чужака и по говору, отнюдь не минскому, и по внешнему виду, тоже явно не белорусскому.
Но все было как тогда. Приветливые, спокойные, скромные люди с удовольствием отвечали на мои вопросы и объясняли мне, как проехать к гостинице “Дружба”, что у парка “Челюскинцев” и напротив часового завода “Луч”.
Гостиница оказалась старая, номера без душа, туалета, хотя кругом было довольно чисто. Запомнилась администратор – энергичная русская женщина, которая, подавшись всем корпусом к окошку, с жаром доказывала, что самые надежные в мире мужчины – это белорусы: никогда не предадут, не обманут. Ее возраст и жизненный опыт – а, по ее словам, живет она в Белоруссии более тридцати лет – заставляли с большим доверием и уважением отнестись к ее словам.
В четырехместном номере мы жили вдвоем с еще одной москвичкой, пока к нам не привели четырех тоненьких девочек-сестер в возрасте от семи до двенадцати лет и попросили разместить их у себя. Оказывается, приехал целый автобус детей с родителями из деревни Семиостич для очередного медицинского обследования в клиниках Минска.
Девочки приехали с отцом, а мать осталась в деревне ухаживать за скотиной. Мы усадили их пить чай с московским, вернее, подмосковным клубничным вареньем. За шутками и разговорами узнали нечто непривычное для московского слуха – у кого сколько накоплено единиц радиации, узнали, что у младшей Оленьки, как сказали почти хором девочки, “щитовидка второй степени”. Живут они в “грязной” зоне. Отец говорит: “Надо бы уехать, но куда? Да и дом новый, большой, скотины полно…”
Весь вечер мы слушали их рассказы о деревне, об их доме, о коровах, поросятах. Читали стихи: они нам Якуба Колоса, а мы им – Лермонтова. Хотелось их обнять, прижать к себе, содрать с них эту невидимую радиацию…
Утром чуть свет их подняли, и больше мы их не видели. В памяти остались синие глаза, светлые тонкие косички и смешное перешептывание: “Яки добрые тетки”.
Во время работы для завершения переговоров с одним клиентом – это была директор крупного “Универсама” – мы с сотрудницей “Бинмэкса” были приглашены к ним в магазин. Переговоры завершились, и хозяева предложили нам воспользоваться возможностью купить интересующие нас продукты.
Директор “Универсама”, холеная белокурая красавица, задав нам вопрос: “Чего бы вы хотели?”, приготовилась записывать наш заказ, чтобы тут же отдать распоряжение на его подборку. И как в юмореске Жванецкого у простака, попавшего в спец. распределитель в голове все кружились “пирамидон” и “валенки”, так и мы, растерянно переглядываясь, ища поддержки друг у друга и представляя пустые московские прилавки, кроме “мяса” и “масла” ничего с ходу вспомнить не могли.
Сочувственно улыбаясь, директор сама составила сказочный перечень и, находясь в каком-то гипнотическом состоянии, расплатившись почти копейками, мы ушли, нагруженные до предела.
Очутившись на улице, мы почувствовали досаду за то, что такие неловкие, ничего-то не знаем, за то, что поддались соблазну, за тот взгляд, которым нас провожала директриса. Было стыдно за полные сумки перед другими, снующими по пустым магазинам людьми, такими же работягами. Пропади пропадом все эти деликатесы, половину которых я видела в первый раз. Но дело сделано, и надо это пережить.
Вечерами после работы ходила по городу, чистому и красивому в любую погоду. На проспекте Франсиска Скорины, бывшем проспекте Ленина, увидела бетонную стену – забор строящегося метро с письмами Виктору Цою, полными отчаяния и боли. Этот необыкновенный певец дорог и сейчас здешней молодежи. Запомнилась надпись: “Витя, ты спас нас, так зачем ты ушел?”
Спускаюсь в метро. Прямо на торцевой балке перекрытия согрела душу листовка с таким обращением: “Держитесь, друзья! Мы все равно будем единой державой!” А мне казалось, что только россияне жалеют о распаде Союза.
Хотя с некоторой ревностью отмечаю, что многие минчане едут в Польшу охотнее, чем в Москву. Правда, это, в основном, коммерческие поездки на два – три дня, но они становятся обычным явлением. Везут все, кроме электротоваров, вывоз которых запрещен. В основном вывозят бытовую химию. В декабре стоимость такой поездки на автобусе составляла 6 долларов и 4000 рублей.
Кстати, о рублях. Если промтовары в магазинах можно еще купить за российские рубли, то продукты, которые здесь существенно дешевле, чем в Москве, – только за “зайчики”. Так называют повсеместно белорусские деньги любого достоинства, хотя бегущий заяц изображен лишь на рублевой купюре. А вообще денежный зверинец составляют и волки, и рыси, и медведь, и зубр, и белка, и лось.
Намеренно ничего не пишу о выставке. Она прошла как надо и 18 декабря закрылась. Командировка окончилась.
Уезжала я из Минска с двойственным чувством: это и радость, что возвращаюсь в любимую, родную Москву, к себе домой, но это была и печаль, которая вобрала в себя и воспоминания четырнадцатилетней давности, и встречу с больными девочками в гостинице, и эти “зайчики”, и эти разрозненные штрихи былого единства…
Но, может быть, просто поезд отходил вечером, а в это время, как известно, печаль вылетает из своего убежища и опускает свои мягкие темные крылья на одинокие души.
1992 год
Экология в музыке
В конце августа – начале сентября 1994 года мне, обычному инженеру-электрику, проработавшему 25 лет в обычном московском НИИ, по счастливой случайности удалось побывать в Греции. До этого многие годы приходилось безнадежно завидовать всем тем, кто, не имея допуска к секретным работам и за государственный счет или накопив солидную сумму денег и пройдя многочисленные проверки благонадежности до третьего колена – или не проходя никаких проверок – мог съездить на две недельки посмотреть, как живут другие люди, наши соседи по планете.
Времена изменились, и так случилось, что тогда заболел один скрипач оркестра, а билет пропадал. Быстро все оформили на меня, и вот я в замечательной компании московских музыкантов лечу в неведомые края.
Мы направлялись в небольшую греческую деревушку Хорто, что приуютилась между холмами на побережье залива Погасикос Эгейского моря, где в это время проходил музыкальный фестиваль “Экология в музыке”, в котором приняли участие музыканты разных стран. Россию представлял симфонический оркестр Московского Баховского центра.
Поскольку я очутилась за границей первый раз, все мои чувства были обострены и схватывали самые мелкие отличия от нашей жизни. Я была человеком, наслушавшимся всякой всячины о чужих краях, и теперь с любопытством сравнивала эти слухи с увиденным.
Дорога от афинского аэропорта до нашей деревни заняла шесть часов езды на автобусе. Сразу же за столицей, за ее фешенебельными пригородными коттеджами начинались поля – небольшие по российским масштабам прямоугольники красной земли, на которых зеленели кусты хлопчатника, перца, томатов. Удивило обилие поливных установок, далеко разбрызгивающих драгоценную влагу на поля. В водяной пыли рождались искрящиеся радуги – десятки, сотни маленьких переливающихся радуг.
За полями раскинулись оливковые рощи. Вот огромная плантация молодых посадок, где среди красной земли поднимались растеньица не выше человеческого роста. А вот зрелый оливковый сад, серебристыми кронами закрывающий землю. А дальше – старые, столетней и большей давности посадки. Огромные деревья с корявыми, закрученными причудливым образом, натруженными при добывании из-под земли влаги, кажущимися безжизненными стволами.
Вдоль дороги можно было увидеть и тополя, и пушистые сосны, которые яркой нежной зеленью украшали выжженную 45-градусной жарой землю. Кое-где мелькали пальмы, кипарисы, акации.
Дальше дорога пролегла между холмами, каменистые склоны которых были также засажены оливковыми деревьями. Еще дальше верхушки холмов были срыты и распаханы под пшеницу.
Но вот и Хорто, который на несколько сотен метров вытянулся вдоль залива. Двух— и трехэтажные дома, стоящие фасадами к морю, почти все в первом этаже имеют кафе или ресторан со столиками у самой воды, куда вечерами стекается все здешнее население – а это и местные жители, и туристы, и горожане, как мы говорим, дачники. Один общий пляж проходит вдоль всего берега и лишь изредка прерывается нагромождением камней, пирсом или каналом, врезающимся в глубь материка, в котором покачиваются привязанные лодки. Среди них и обычные, простые, виденные много раз, и катера разных моделей, похожие на нарядные автомобили, сверкающие полированными поверхностями. Поодаль лежат сложенные серфы – доски с парусом, на которых после трудового дня любят покататься мужчины.
Берег гористый, и дома то прижаты к самому морю внизу, то взбегают на гору и радуют глаз с высоты своими белыми стенами, черепичными крышами, резными балкончиками, ажурными решетками, цветниками. Узкие улочки отходят перпендикулярно от моря, и там, в палисадничке, среди листвы мелькнет заботливая хозяйка, поливающая цветы или чистящая овощи, или молодая мать, укачивающая ребенка, а то и хозяин с газетой.
Возле каждого дома – многолетние виноградные лозы, образующие шатры над двориками, с которых свешивались большие кисти крупных ягод. Здесь также росли груша, персик, оливки, в тени которых паслись козы. Что интересно, коз здесь привязывают не веревкой, которая врезается в шею, а надевают специальный намордник. Некоторые хозяева держат кур, индюков.
Каждый день на небольшую площадь у моря приезжает грузовик с овощами и фруктами. Его владелец выносит большие, диаметром в полметра пружинные весы и выставляет корзины с помидорами, луком, картофелем, виноградом, перцем, баклажанами и огромными персиками.
Узнав, что я из России, продавец оживился, что-то быстро заговорил, особо выделяя слова “Херсон” и “Одесса”. Я, до этого просто улыбавшаяся, вдруг, не узнавая себя, радостно закивала и с удовольствием заповторяла эти магические слова, которые сделали этого человека хорошим знакомым, своим на все остальное время.
Здесь же на площади среди пыли, высохших стеблей бамбука, мелких камешков стоит стеклянная будочка с телефоном. Купив рядом в киоске карточку, я через минуту разговаривала с Москвой. Причем не приходилось ни кричать, ни бить по аппарату, ни прикрывать трубку рукой, а просто нормально разговаривать. И только дрожание руки выдавало волнение от необычности для простого россиянина вот так запросто из деревни за многие тысячи километров поговорить с Москвой, да не с Кремлем или Белым Домом, а позвонить в обычную квартиру из спального района.
В Хорто два магазинчика, где можно купить все. В одном из них стоит музыкальный синтезатор, наверное, довоенного выпуска, на котором хозяин по имени Косто, подвижный веселый мужчина лет сорока пяти, иногда музицирует даже в присутствии покупателей. Наших ребят он полюбил сразу и от души каждый день всем дарил сувениры – открытки, зажигалки, редкие у нас специи, а то и угощал рюмочкой водки.
Каждое утро в магазин Косто привозят две большие корзины с вертикально торчащими палками свежего хлеба, который на вкус оказался абсолютно не соленым. Может быть, это и полезно, но непривычно. Купив такую палку в Москве, я обычно домой привожу в лучшем случае половину, а здесь больше одного кусочка есть не хотелось.
Как и глаза, слух тоже находит много нового. Крик осла, быстрый греческий говор, необычный звуковой сигнал у промчавшегося автобуса. Но каждое утро начиналось с радости – раздавался чистый голос трубы, напевающей родное “Наверх вы, товарищи, все по местам…”. Это наши музыканты играли “подъем”. И вся деревня это слышала!
Армянские гены в моей крови почувствовали в Эгейском море что-то родное. Всегда присутствующий страх перед водой здесь наконец-то отпустил меня, и я погрузилась на старости лет в родную стихию, отдала себя ее ласковому касанию, ее заботливому материнскому поддерживанию. Лишь время от времени она заигрывала со мной, щекоча неизвестно откуда взявшимися прохладными струйками. Прошел час, другой… Но нельзя же совсем не выходить из воды. Это же ненормально! Возникла мысль, что неплохо бы спать ночью в море. Явно перегрелась на солнце.
Первый концерт нашего оркестра состоялся вечером на открытой сцене деревенского амфитеатра. Музыканты расселись внизу на полукруглой каменной площадке, а зрители – на веером расходящихся древних каменных ступенях. Собралось около двухсот человек.
Греческий дирижер Георгиос Хадзиникос, выступавший в Москве с этим оркестром весной, был хорошо знаком нашим музыкантам. Зазвучала музыка Дебюсси, Пёрсела, Баха. Приятным сюрпризом для слушателей стало исполнение танцев для оркестра греческого композитора Николаоса Скалькотаса. Пели цикады, качался десятиметровый бамбук, стоящий стеной за спинами музыкантов, звучала прекрасная музыка…
С этого дня я как прикормленная собачонка ходила за оркестром на все его репетиции, концерты, на все выступления наших и других музыкантов, на мастер-классы по вокалу и ансамблю, которые проводились в рамках этого фестиваля, и даже на семинары, которые велись на греческом языке.
В один из дней я познакомилась с 25-летней гречанкой из Афин по имени Лица, которая прекрасно, почти без акцента говорит по-русски, хотя ни разу не была в России, является большой поклонницей русской культуры, любит наши стихи, переводит их на греческий язык, обожает русскую музыку, имеет прекрасный голос и с удовольствием поет романсы Чайковского и Рахманинова. Использует малейшую возможность для выступлений с русской программой, однако с сожалением замечает, что русскую музыку в Греции знают плохо.
Отец и дядя Лицы партизанили в горах во время Второй Мировой войны, а Лицу воспитали в любви ко всему русскому, будучи в полной уверенности, что лучше русских людей на свете никого нет. Это слово в слово поведала мне сама Лица. И если она узнаёт, что в Грецию приехала русская делегация, особенно музыканты, Лица летит на эту встречу.
Сейчас она огорчена тем, что на нынешнем фестивале ее педагог по мастер-классу американка Гаелин Сабора не разрешает ей петь русскую программу. Лица говорит: “Я не могу без этого. Ну, разве ей объяснишь? Это надо рассказывать всю мою жизнь!”
Я сижу за столиком в кафе у моря. Поблизости никого нет. Лишь старик с черно-седой бородой и такой же роскошной гривой вьющихся волос налаживает серф. И вот он, стройный, богоподобный, несется на фоне дальнего холмистого берега залива по гладкой поверхности воды, ловко подхватывая парусом ветер.
Как-то с виолончелисткой оркестра мы решили пойти пешком в соседний город (или деревню) с красивым названием Милина. По дороге среди дикой флоры радостно было встретить в такой дали от дома синенькие цветочки цикория, сочную полынь, такой русский подорожник и бесконечные кусты ежевики, за которую то и дело цеплялись наши лучшие наряды. Идти минут сорок, но по дороге попадались такие уютные бухточки с неправдоподобно чистой изумрудной водой и зовущим песчаным берегом, что наше путешествие затянулось. Хотелось побыть в этой воде, понежиться, потрогать ее, рассмотреть как следует дно, пособирать камушки.




