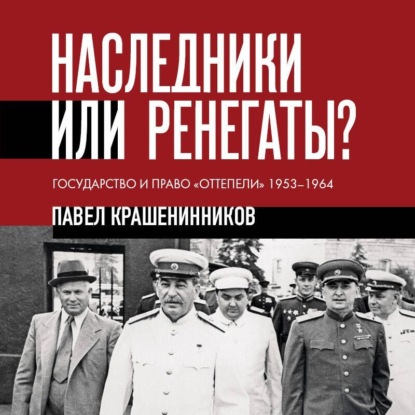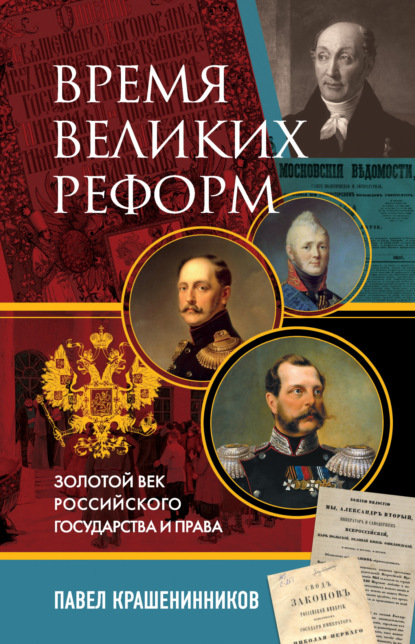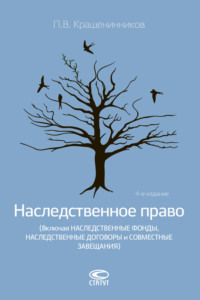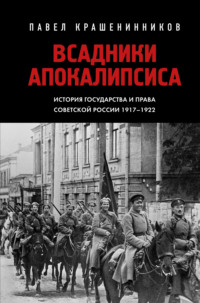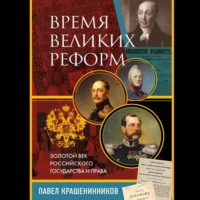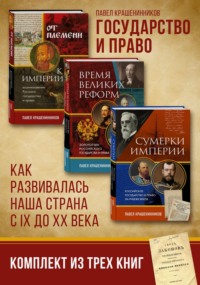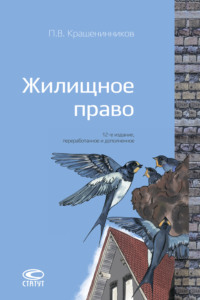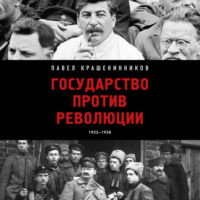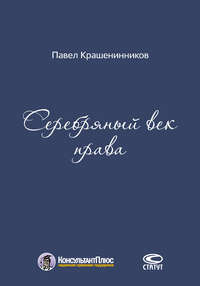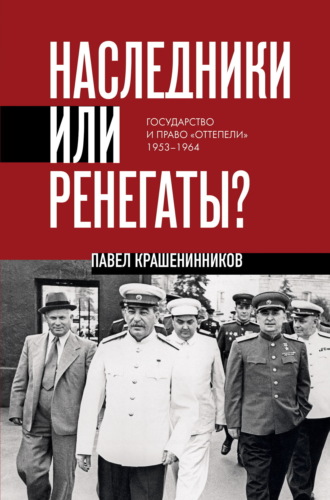
Полная версия
Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964
Предложение ограничить партийную власть, поручив ей идеологические и пропагандистские задачи, а все управленческие решения передать Совету Министров также не отличалось новизной. Этот процесс начался еще при Сталине и получил свое продолжение и после его смерти. 14 марта 1953 г. состоялся Пленум ЦК КПСС. Председатель Совета Министров СССР Маленков попросил освободить его от обязанностей секретаря ЦК КПСС. Была признана нецелесообразность совмещения функций Председателя Совета Министров СССР и секретаря ЦК КПСС. Явно определилось стремление отделить партийную власть от государственной. Только один член Президиума – секретарь ЦК Хрущев – не имел государственной должности. Состав Президиума ЦК фактически дублировал руководство Совета Министров СССР.
Впрочем, о революционных идеях Берии известно в основном из высказываний в его адрес со стороны обличавших его на различных партийных форумах высших чиновников[17] и из многочисленных мемуаров. Документально подтвержденными являются только предложения, касавшиеся непосредственной сферы деятельности Лаврентия Павловича – репрессивных органов.
Берией были предложены и – главное – реализованы инициативы, значительно снижающие репрессии в будущем и корректирующие расправы в прошлом (при Сталине).
Во-первых, были созданы следственные группы по пересмотру уголовных дел о выселении граждан из Грузии, об обвинении бывшего руководства Военно-воздушных сил и Министерства авиационный промышленности СССР, о так называемых врачах-вредителях, о так называемой мингрельской националистической группе, о деле Н. Д. Яковлева, И. И. Волкотрубенко, И. А. Мирзаханова и других (дело артиллеристов) и пр. В итоге все фигуранты были реабилитированы. В том числе был реабилитирован брат Л. М. Кагановича Михаил, обвиненный в принадлежности к правотроцкистской организации еще в конце 1930-х гг. и покончивший с собой из-за угрозы ареста. При этом было возбуждено дело «О привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в убийстве С. М. Михоэлса и В. И. Голубова»[18].
Во-вторых, была проведена широкая амнистия[19], по которой на свободу вышло более миллиона человек, осужденных на срок до 5 лет, – более трети советских заключенных[20]. Не подлежали амнистии те, кто попал за решетку по знаменитой статье 58, предполагавшей наличие политического преступления, а также убийцы и бандиты.
В-третьих, были изданы приказ министра внутренних дел «О запрещении применения к арестованным каких-либо мер принуждения и физического воздействия» и постановление Президиума ЦК КПСС «Об одобрении мероприятий МВД СССР по исправлению последствий нарушения законности». Запрещалось применять «изуверские методы допроса»: «грубейшие извращения советских законов, аресты невинных советских граждан… жестокие избиения арестованных, круглосуточное применение наручников на вывернутые за спину руки… длительное лишение сна, заключение арестованных в раздетом виде в холодный карцер». Как было отмечено в приказе Берии, «пользуясь таким состоянием арестованных, следователи-фальсификаторы подсовывали им заблаговременно сфабрикованные „признания” об антисоветской и шпионско-террористической деятельности». Приказ требовал «ликвидировать в Лефортовской и внутренней тюрьмах организованные руководством бывшего МГБ СССР помещения для применения к арестованным физических мер воздействия, а все орудия, посредством которых осуществлялись пытки, уничтожить»[21].
Лаврентий Павлович являлся автором многочисленных записок в адрес Президиума ЦК КПСС, касающихся внутренней и внешней политики Советского государства. Например, «Об упразднении паспортных ограничений и режимных местностей», «Об ограничении прав Особого совещания при МВД СССР», «О ходе следствия по делу М. Д. Рюмина» (провокатора дела о врачах-вредителях).
С подачи Берии были приняты следующие акты: постановление Президиума ЦК КПСС «О политическом и хозяйственном состоянии западных областей Украинской СССР», постановление Президиума ЦК КПСС «О положении в Литовской ССР», постановление Президиума ЦК КПСС «О положении в Белорусской ССР».
В распоряжении Совета Министров СССР «О мерах по оздоровлению политической обстановки в ГДР», в частности, говорилось:
«1. Признать неправильным в нынешних условиях курс на форсирование строительства социализма в ГДР, взятый СЕПГ[22] и одобренный Политбюро ЦК ВКП (б) в решении от 8 июля 1952 года.
2. В целях оздоровления политической обстановки в ГДР и укрепления нашей позиции как в самой Германии, так и в вопросе о Германии в международном плане, а также обеспечения и расширения базы массового движения за создание единой демократической, миролюбивой независимой Германии рекомендовать руководству СЕПГ и правительству ГДР проведение следующих мероприятий:
а) прекратить искусственное насаждение сельскохозяйственных производственных кооперативов, не оправдавших себя на практике и вызывающих недовольство среди крестьянства. <…>
в) отказаться от политики ограничения и вытеснения среднего и мелкого частного капитала как от преждевременной меры. <…>
е) принять меры к укреплению законности и обеспечению демократических прав граждан, отказаться от жестких карательных мер, не вызываемых необходимостью. <…>
ж) <…> Особое внимание уделить политической работе среди интеллигенции с тем, чтобы обеспечить поворот основных масс интеллигенции в сторону активного участия в проведении мероприятий по укреплению существующего строя. <…>».
Нельзя сказать, что все идеи Берии новоявленные вожди встречали аплодисментами. Тем не менее значительная часть этих идей была реализована, несмотря на то, что, как впоследствии причитал Хрущев, при этом вождям «было противно».
Во-первых, как мы уже отмечали, необходимость каких-нибудь изменений в сложившейся ситуации витала в воздухе, а Хрущев с Маленковым на тот момент внутренне не были готовы что-либо предложить.
Во-вторых, практически все партийные лидеры боялись Берию, поскольку прекрасно понимали, что он много о них знает и сумеет в нужный момент использовать имеющийся у него компромат для нанесения решительного удара по своим же соратникам.
Богатый жизненный и управленческий опыт им подсказывал: единственным верным способом избавления от активного и чрезвычайно опасного соперника является его полная дискредитация перед партией и народом с обязательным физическим устранением. Вопрос о том, что делать с нарождавшимся новым вождем, был поставлен 12 июня, после обсуждения на очередном заседании его записок, подготовленных МВД, и постановлений Президиума ЦК, принятых на их основе. Сепаратные переговоры с отдельными членами Президиума продолжались чуть больше недели. Организаторами переговоров выступали Маленков, Хрущев и Молотов. Они обвиняли Берию в заговоре с целью захвата единоличной власти в стране. У каждого из них были личные причины ненависти к «Лаврентию». Однако главным инициатором ликвидации Берии был Хрущев. Он убирал основного конкурента и подставлял другого претендента на престол – «друга» Маленкова.
Фактически это был заговор Политбюро против одного из своих коллег. Все элементы заговора были налицо: строгая конспирация, секретная подготовка перечня обвинений, проработка сценария, закулисные переговоры и распределение ролей, формирование вооруженной группы генералов и офицеров, которым поручался арест Берии. В правящей элите распускались зловещие слухи – вплоть до того, что Берия хочет собрать в Кремле атомную бомбу с целью шантажа советского руководства.
Вместе с тем у Маленкова, Молотова, Хрущева и Булганина была информация о готовящемся Берией перевороте и арестах 26 июня.
Расправились с Лаврентием Павловичем в лучших традициях сталинских репрессий. Его арестовали на заседании Президиума ЦК КПСС 26 июня 1953 г. Арест производила специально подготовленная вооруженная группа военных во главе с маршалом Победы Г. К. Жуковым[23]. В тот же день был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О преступных антигосударственных действиях Берия»[24].
Георгий Константинович вспоминал, что «в 11 часов ночи Берия был скрытно переведен из Кремля в военную тюрьму (гауптвахту), а через сутки – в помещение командного пункта МВО[25] и поручен охране той же группы генералов, которая его арестовала. В дальнейшем я не принимал участия ни в охране, ни в следствии, ни на судебном процессе. После суда Берия был расстрелян теми же, кто его охранял»[26].
В Указе от 26 июня 1953 г. констатировались «преступные антигосударственные действия Л. П. Берия, направленные на подрыв Советского государства в интересах иностранного капитала». Берию лишили полномочий депутата Верховного Совета СССР, всех присвоенных ему званий, а также орденов, медалей и других почетных наград, сняли с поста первого заместителя Председателя Совета Министров СССР и с поста министра внутренних дел СССР. Отобрали даже ученые степени – кандидата и доктора физико-математических наук.
29 июня 1953 г. на заседании Президиума ЦК было принято постановление «Об организации следствия по делу о преступных антипартийных и антигосударственных действиях Берия»[27].
Генеральный прокурор СССР Р. А. Руденко[28] был утвержден в должности также 29 июня. Постановление Президиума ЦК обязывало Руденко «в суточный срок подобрать соответствующий следственный аппарат, доложив о его персональном составе Президиуму ЦК КПСС, и немедленно приступить, с учетом данных на заседании Президиума ЦК указаний, к выявлению и расследованию фактов враждебной антипартийной и антигосударственной деятельности Берия через его окружение».
Первоначально следствием по делу Берии руководил председатель Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР И. А. Серов, затем по решению Н. С. Хрущева[29] следственную группу возглавил Р. А. Руденко. Он же и лично допрашивал Берию.
Понятно, что так называемое объективное расследование «преступной деятельности Берия и его банды» осуществлялось отнюдь не в рамках позитивного права. Как и все фальсифицированные показательные процессы и расследования во времена сталинского режима, результаты этого самого расследования были определены заранее указаниями политического руководства, то есть в рамках Права катастроф.
Судебный процесс по делу Берии рассматривался Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР под председательством маршала И. С. Конева 23 декабря 1953 г. Берию приговорили к смертной казни. По указанию вождей Руденко был свидетелем расстрела Берии 24 декабря 1953 г., после чего доложил Хрущеву о «решении проблемы».
Отметим, что Берию и его ближайших соратников из органов госбезопасности[30] судили по особой процедуре, обжалование и подача прошений о помиловании не допускались, приговор к высшей мере наказания исполнялся в течение суток[31].
Мотивы организаторов этой типичной для сталинского режима интриги столь же неблаговидны, сколь и очевидны. Кроме банальной борьбы за власть налицо стремление свалить всю ответственность за кровавые репрессии на наиболее одиозного соратника Сталина, а самим остаться в стороне. Кроме того, расправа над «бандой Берии» стала своеобразной клятвой на крови со стороны нового руководства в том, что сталинским репрессиям отныне будет положен конец. Так оно и случилось – отныне более или менее крупные начальники и видные представители советской интеллигенции почти все умирали собственной смертью.
Расстрел Берии, как положено, получил всенародный отклик и поддержку, а сам он превратился в общественном сознании в знак (бренд) зла, тирании, государственного насилия. На долгие годы Берия стал символом преступлений сталинского режима – как за все содеянное им, так и приписанное ему.
§ 3. Короткая дистанция и падение Маленкова
Расправа над Берией удалила одного из главных претендентов на мундир вождя, но не приблизила новоявленных лидеров к ответу на вопрос, что следует пообещать советским гражданам, чтобы упрочить приобретенную политическую власть. То, что это не могут быть радикальные политические реформы, было очевидно на примере Лаврентия Павловича.
На июльском Пленуме ЦК КПСС 1953 г. с главным докладом «О преступных и антипартийных действиях Берия» выступил Г. М. Маленков. Бывшие соратники Берии непрерывно перемывали кости поверженному титану. Они если не понимали, то чувствовали, что внезапная десталинизация режима может привести к непредсказуемым подвижкам в обществе, деблокированию глубоко загнанного раскола и в конце концов смести и их с вершины власти. Поэтому усердно втаптывали в грунт того, кто осмелился сказать то, о чем и думать совсем недавно было смертельно опасно.
Даже сейчас, читая разные варианты стенограмм этого пленума[32], испытываешь чувство неловкости. Слишком уж очевидно лицемерие ораторов – государственных мужей, плохо скрывающих приступы сладострастной мести и одновременно попытки самооправдания. Все инициативы Берии извращались с точностью до наоборот: объявил амнистию – на самом деле для того, чтобы благодарные зэки считали его своим вождем, предлагал окоротить полномочия внесудебных органов – на самом деле для того, чтобы поставить органы следствия под свой личный контроль, предлагал шире привлекать национальные кадры в руководство республик – на самом деле насаждал национализм. И т. д. и т. п.
Сложно это представить, но если вождь думал о своем преемнике, то по целому ряду причин это был не Берия, а Георгий Максимилианович Маленков. Он был для Сталина наиболее подходящим кандидатом на эту роль.
Во-первых, в начале 1950-х годов хозяин Кремля больше всего доверял именно ему, они много общались официально и неформально. Сталин даже поручил ему вместо себя сделать доклад на XIX съезде партии. Маленков выступил с отчетным докладом ЦК КПСС 5 октября 1952 года на XIX съезде партии, что «подтвердило позиционирование Маленкова в глазах партийного руководства как второго человека в партии»[33].
В докладе Георгий Максимилианович, как положено, охарактеризовал внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза, обратил внимание на проблемы, существующие в экономике и государственном управлении. Съезд переизбрал партийные органы и внес изменения в Устав, партия стала называться КПСС. Понятно, что и за главным докладом, и за перестановками стоял Хозяин, но исполнение он доверил именно Георгию Маленкову.
Осенью 1952 г. Молотов и Микоян были в опале. Преследования Берии только начинались. Мингрельское дело находилось в начальной стадии, но Лаврентий Павлович из фигуры постепенно превращался в фигуранта. Хрущев вообще не рассматривался. Военным Сталин не доверял, в их среде ему везде мерещился Троцкий и даже Наполеон.
Скорее всего, расчеты по поводу преемника он не делал, думается, что это было на интуитивном уровне: «Этот хуже, а этот еще хуже…».
Одним словом, Маленков был всегда рядом, выражаясь бюрократическим языком, имел неограниченный доступ к телу. Точно выполнял все поручения, умел доложить об их выполнении.
Во-вторых, Георгий Максимилианович родился на Южном Урале, в Оренбурге, был русским. После войны и тем более после знаменитой речи Сталина о вкладе русского народа в победу Советской страны у Маленкова была подходящая и безупречная биография, он был относительно молод для управления государством (51 год) и уже имел богатый партийный, советский и даже военный опыт. Был образован, окончил Московское высшее техническое училище.
В-третьих, Маленков был мастером интриг и чувствовал себя при этом как рыба в воде. Он хорошо знал обстановку, перед тем как ввязываться в ту или иную заварушку или бойню. Понимал расклад сил и настроение вождя в каждой конкретной ситуации.
И наконец, сам Георгий Максимилианович очень хотел возглавить страну, считал, что он не просто может повести ее в светлое будущее, но что это его святой долг – сделать Советский Союз более сильным, а советских граждан – более счастливыми. Марксизм-ленинизм, если его очистить от сталинизма, культа личности, излишних репрессий, мог, по его мнению, помочь в процветании СССР и советского народа.
Маленков первым, но очень осторожно высказался о культе личности, он понимал необходимость реформ, но, поскольку политическое прожектерство оказалось слишком опасным, речь могла идти только о преобразованиях в экономической сфере.
В августе-сентябре 1953 г. Председатель Совета Министров СССР Георгий Максимилианович Маленков и Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев выступили с программами, серьезно корректировавшими привычный экономический курс. Речь Г. М. Маленкова[34] на августовской (1953 г.) сессии Верховного Совета СССР о необходимости приоритетного производства товаров народного потребления и выступление Н. С. Хрущева на сентябрьском (1953 г.) Пленуме ЦК КПСС[35] с программой сельскохозяйственных преобразований дали старт гонке обещаний, призванных наконец-то заметно улучшить жизнь советских граждан.
Маленков предложил программу приоритетного развития производства товаров народного потребления. Им был поставлен нетрадиционный для советской практики вопрос об ускоренном развитии производства товаров народного потребления (группа «Б»), значительном увеличении средств на нужды пищевой и легкой промышленности с сохранением высоких темпов роста тяжелой промышленности (группа «А»). На самом деле Георгий Максимилианович беззастенчиво воспользовался наработками Н. А. Вознесенского – ставленника А. А. Жданова – и ленинградской группы, которую сам и погубил. В свое время команда Жданова – Вознесенского смогла добиться определенных положительных результатов в экономической области, в том числе отмены карточной системы, проведения денежной реформы и вызванного этим некоторого усиления товарно-денежных отношений в стране.
С подачи Маленкова в два раза был уменьшен сельскохозяйственный налог с индивидуальных приусадебных участков, за счет которых в значительной степени и существовало сельское население и немалое число горожан. Снижение налогов не только способствовало улучшению материального благосостояния населения, но и укрепляло веру советских граждан в силу социалистических институтов. В результате этих инициатив популярность Маленкова резко возросла, что, конечно, не укрылось от глаз его конкурентов.
Хрущев предложил программу приоритетного развития сельского хозяйства. В его докладе «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства СССР», длившемся 4 часа, были выделены объективные и субъективные причины его серьезного отставания. Предпосылками для восстановления баланса между городом и деревней была объявлена появившаяся возможность высокими темпами развивать и тяжелую индустрию, и сельское хозяйство, и легкую промышленность.
Было очевидно, что лидеры двух основных политических сил – партийного и государственного аппаратов – развернули борьбу за первенство. На тот момент взгляды большинства советских лидеров на построение властной иерархии основывались на признании главенствующей роли Совета Министров во всех сферах жизни советского общества. Линию на усиление роли правительства олицетворял его председатель Маленков со своими заместителями. Хрущев был недоволен вспомогательной ролью партийного аппарата и мечтал вернуть ему рычаги управления страной и ее экономикой, как это было в 1920-е гг.
С точки зрения индивидуальных особенностей эти два лидера заметно отличались. Маленков никогда не работал первым лицом, отвечающим за район, область, республику, вся его многолетняя деятельность была связана с аппаратом, подготовкой всевозможных документов. Так что с харизмой у него было не очень. В этом он, несомненно, уступал Хрущеву, в котором партийный аппарат почуял выразителя своих жизненных интересов и амбиций.
В начале сентября 1953 г. на Пленуме ЦК был учрежден пост Первого секретаря ЦК, на который 7 сентября был избран Хрущев. Избрание было во многом обеспечено поддержкой партийной номенклатуры, недовольной решениями от 25 мая и 13 июня 1953 г. об отмене так называемых конвертов – временного денежного довольствия, выплачивавшегося руководящим работникам партийного аппарата ежемесячно с 1948 г. в дополнение к зарплате. В августе стараниями Хрущева эти решения были аннулированы, размеры довольствия увеличены, выплачена разница за три месяца.
Хрущев начал кампанию тотальной атаки на государственный аппарат, являвшийся вотчиной Маленкова. Им был возобновлен еще сталинский курс на борьбу со всевозможными проявлениями бюрократизма в работе правительственных и советских органов. Эта политика оформлялась постановлениями ЦК КПСС «О серьезных недостатках в работе государственного аппарата» (январь 1954 г.) и «О существенных недостатках в структуре министерств и ведомств и мерах по улучшению работы государственного аппарата» (октябрь 1954 г.)[36].
Деятельность Маленкова была представлена как олицетворение бюрократического стиля работы, оторванного от живого взаимодействия с людьми, для которого характерно затягивание решений по важнейшим вопросам и обильное бумаготворчество. Л. М. Каганович говорил: «Если мы возьмем и подсчитаем сумму бумаг, которые выпускаются за подписью тов. Маленкова, то вы увидите, что несколько Маленковых не прочтут то, что подписано в один день. Для того чтобы прочесть одни заголовки, нужно посадить двух человек. Значит, бумаги сплошь и рядом подписываются не читая, по перечню»[37].
При этом партаппарат, не отягощенный обязанностью непосредственного контакта с населением, оставался в стороне от этой критики. Граждане писали жалобы именно в партийные органы, поскольку пропаганда подчеркивала роль КПСС как руководящей, скрепляющей основные конструкции власти силы, которая поможет нуждающемуся, утешит обиженного и строго покарает виновного.
Перейдя в наступление, Хрущев со товарищи начал «шить политику» Маленкову. Его идея о развитии легкой промышленности и о производстве товаров народного потребления была охарактеризована как экономически необоснованная, рассчитанная на снискание дешевой политической популярности. Кроме того, эти идеи противоречили советской доктрине внешней политики и интересам ВПК, пожиравшим практически всю экономику страны, а также экономическим воззрениям Сталина.
Хуже того, в речи на собрании избирателей 12 марта 1954 г. Георгий Максимилианович выдвинул тезис о возможности гибели мировой цивилизации в случае развязывания третьей мировой войны с использованием ядерного оружия. К схожему выводу тогда же пришли два всемирно известных ученых – физик Альберт Эйнштейн и философ Бертран Рассел. А Маленкову в Президиуме ЦК КПСС устроили за это настоящую выволочку. Особенно лютовал министр иностранных дел Молотов. Было объявлено, что подобные утверждения способны породить настроения безысходности и ненужности усилий народов, протестующих против планов империалистических агрессоров[38]. Таким образом, нарождавшийся принцип мирного сосуществования двух систем вследствие гарантированного взаимного уничтожения был сталинистами отвергнут.
И уж, конечно, припомнили ему связь со вторым членом его тандема – ужасным и кровавым Берией. Маленков был обвинен в политической близорукости, в результате которой он попал под влияние Берии и превратился в безвольное орудие в руках злейшего врага партии и народа. Интересно, понимал ли Маленков, когда, что называется, сливал своего подельника по тандему в 1953 г., что тем самым он выбивает кресло власти из-под себя?
Финальной точкой, окончательно погубившей авторитет Маленкова, стал состоявшийся в декабре 1954 г. суд над бывшими руководителями Министерства государственной безопасности, обвиненными в фабрикации Ленинградского дела. Он был сильно скомпрометирован как один из организаторов Ленинградского дела и расправы над «ленинградцами»[39].
В итоге 31 января 1955 г. Пленум ЦК КПСС принял решение об освобождении Маленкова от обязанностей Председателя Совмина[40]. Покаявшийся и обещавший «исправить ошибки», он был оставлен членом Президиума ЦК и назначен заместителем Председателя Совета Министров СССР, министром электростанций СССР. 8 февраля 1955 г. Верховный Совет СССР назначил второго члена хрущевского тандема Н. А. Булганина новым руководителем правительства. Во главе освобожденного им Министерства обороны стал Г. К. Жуков.
Георгий Максимилианович после июньского Пленума ЦК КПСС 1957 г. (о котором мы расскажем в § 4 настоящей главы) был выведен из состава ЦК и в июле 1957 г. отправлен работать директором гидроэлектростанции в Усть-Каменогорск, а затем в августе 1958 г. – директором тепловой электростанции в Экибастуз. В ноябре 1961 г. по требованию Хрущева был исключен из членов КПСС. При Брежневе в 1968 г. вернулся в Москву. Умер 14 января 1988 г., похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Несмотря на неоднократные обращения, в партии восстановлен не был.