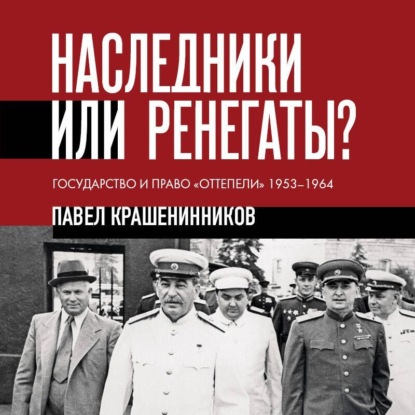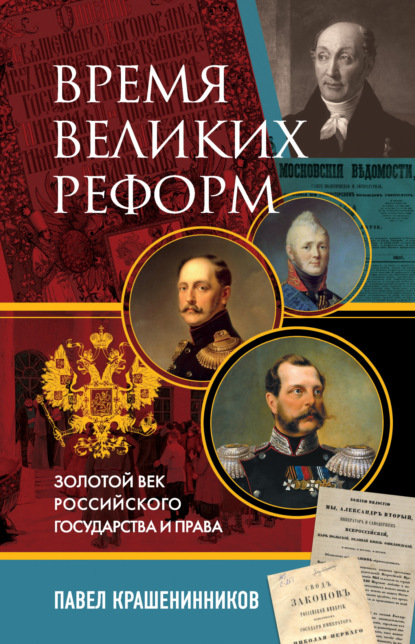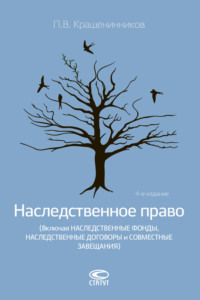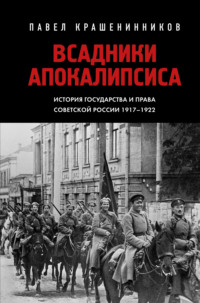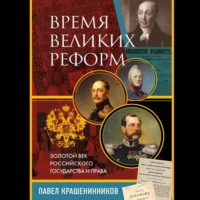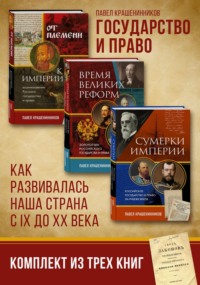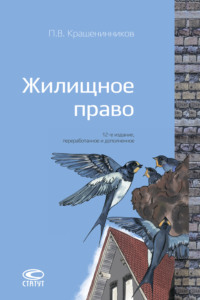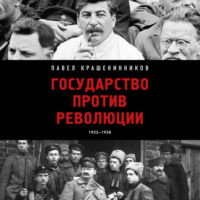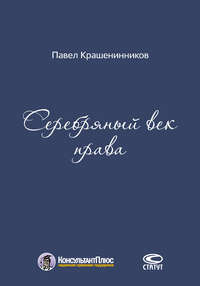Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964
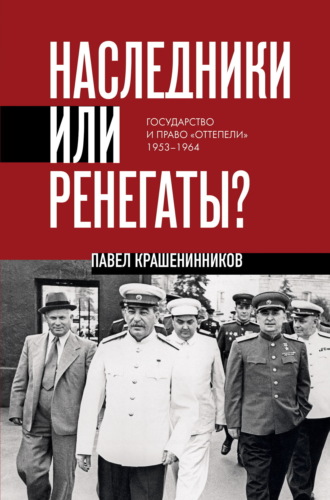
Полная версия
Наследники или ренегаты. Государство и право «оттепели» 1953-1964
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу