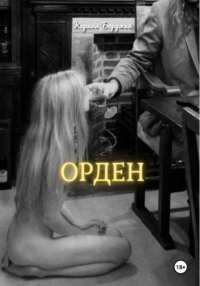Полная версия
Красная: Начало боли
Он может взять её – и отвести куда-то, откуда нет пути назад. Где другие – такие же – сидят под навесом, греют руки о чужие тела и никто не спрашивает, кто звал.
А может, он просто положит руку ей на голову и скажет:
– Теперь ты – моя.
И этого окажется достаточно, чтобы уже нельзя было сказать "нет".
В этом образе нет эротики. Только дрожь. И всё же… что-то в нём страшно манит. Потому что быть найденной – даже случайно – легче, чем остаться в себе.
А если позвать Его – по-настоящему? Не шепотом, не в полуслове, не как девочка, боящаяся быть услышанной, а как женщина, которая знает, кто к ней должен прийти.
Если выдохнуть имя. Не для леса. Для себя. «Волк…».
Она ведь знает, как это произойдёт. Он не появится сразу. Не шагнёт из тени, не треснет ветка. Сначала – изменится воздух. Станет плотнее. Теплее. Липче, как перед грозой. Пахнущий не дождём, а кожей. Металлом. Глубоким сном, который помнит прикосновения.
И потом – он появится. Не рядом. Вокруг. Не в теле. В реакции на всё.
Он не скажет: «Ты меня звала?»
Он скажет:
– Ты готова.
И она не испугается. Потому что знала. Потому что всё, что в ней дрожало – ждало не ласки, а совпадения.
Он подойдёт. Не торопясь. По кругу. Как зверь, который чувствует – приглашение настоящее. Без расчёта. Без капкана.
Он не тронет сразу. Он вдохнёт её, как если бы хотел понять, что именно в ней сейчас открыто: шея, ладонь, влажность между ног или то место, где она уже сказала «да».
Он скажет:
– Я тебя слышал ещё до того, как ты позвала. Ты шла по мне. Не по лесу.
Она не ответит. Потому что ответ в теле. В губах, которые приоткрылись. В сосках, что напряглись под мокрым плащом. В пальцах, всё ещё сжимающих свёрток, будто он – последнее, что связывает с детством.
Он не торопится. И это самое страшное. И самое сладкое.
Потому что когда он её тронет – это будет не начало, а продолжение.
А если – не звать вовсе?
Если остаться в этой сырости, в этом одиночестве, в этом весе промокшего плаща, и не выдохнуть ни имени, ни мольбы, ни вызова?
Если просто – встать, разогнуть спину, почувствовать, как тяжёлые капли скользят по затылку вниз – вдоль позвоночника, по копчику, между ягодиц – и ничего с этим не сделать?
Если принять, что ты одна. Что никто не придёт, если ты не дашь разрешения. И даже если дашь – никто не обязан.
Если идти дальше. Не потому, что знаешь куда. А потому, что стоять – значит ждать, а ты больше не ждёшь.
Пусть дождь проникает под плащ. Пусть сапожки натирают ступни. Пусть в груди – пусто, а между бёдер – влажно не от желания, а от того, что тело всё ещё помнит прикосновения, которых не было.
Она может не звать. Не потому, что гордая. А потому, что не хочет, чтобы кто-то выбирал за неё.
Пусть он сам найдёт. Если захочет. Пусть дождь сам решит, смоет ли с неё страх.
Пусть лес сам распахнется. Или не распахнется.
Она идёт. Одна. Молча. Медленно.
И с каждым шагом становится не сильнее. Но ближе к себе.
Путь вниз
Под деревом было почти сухо, если не считать мокрого края плаща и тяжёлой влажности в волосах, которая стекала по шее внутрь, и уже не казалась дождём – скорее, напоминанием, что дождь в лесу не прекращается. Он просто ждёт, когда ты забудешь о нём, и тогда касается снова, чтобы проверить, остаёшься ли ты живой.
Красная теперь стояла молча, вглядываясь в то, что не имело формы, и уже не надеясь ни на знаки, ни на образы, когда в поле зрения – плавно, почти как ошибка – вошло движение.
Она не сразу поняла, что это – только после повторного взгляда, когда в воздухе, чуть выше уровня глаз, появились крылья – крупные, влажные, но сияющие, как если бы дождь не касался их вовсе.
Махаон.
Не из книги. Из воздуха. Рыжеватый, с чётким узором, который перекликался с её собственными волосами, как будто был выведен по образу и подобию.
Он не трепетал. Он двигался с достоинством, он не искал тепла, а проверял, кто здесь способен идти за красотой – даже если промок, замёрз, забыл, куда держит путь.
Бабочка не приближалась. И не убегала. Она двигалась в сторону, приглашая и маня, и каждая её остановка была не случайной – а расчётливой.
Красная смотрела. Долго. Сначала – с недоверием. Потом – с увлечением.
Как ты не боишься дождя? – думала она. Как ты вообще летаешь?
И уже не удивилась, когда шагнула следом. Не быстро. Не с порывом. А с той осторожной уверенностью, с какой идут туда, где нет обещаний, но есть шанс.
Бабочка двигалась лениво, но путь её был прям – не по ветру, а сквозь него. Она не искала тропу. Она создавала её – одним только фактом своего движения.
И Красная пошла. Сквозь дождь. Сквозь остатки леса, где деревья становились реже, где мох уступал место камням, где воздух начинал пахнуть не сыростью, а чем-то другим – сухим, ровным, дышащим издалека.
Так они вышли к обрыву. Не резко, а как во снах – когда ты вдруг замечаешь, что перед тобой открывается весь мир, и ты не понимаешь, как дошла, но всё в тебе знает, что дошла правильно.
Внизу лежала долина.
Прекрасная. Живая. Похожая на ткань, натянутую между холмами. Зелёная, с нитями ручьёв, с точками деревьев, с дорожками, что вились, не как дороги, а как шрамы, которые не портят красоту, а делают её правдой.
И в самом центре долины – он.
Дом Бабушки.
Не белый. Не нарядный. Тёмный, глубокий, сложенный из старого бурого кирпича, влажного у основания и почти чёрного по краям, как будто время не разрушило его – только уплотнило.
Это был не просто дом. Это был особняк – крупный, массивный, с выраженным правым и левым крылом, с крышей в несколько ярусов, где каждая линия – как шрам, и башенками, которые не стремились вверх, а впивались в небо.
Центральная часть – чуть выше остальных, с балконом, похожим на наблюдательную точку, и галереей – вытянутой, решётчатой, где не поймёшь, то ли там ходят люди, то ли там что-то держат.
Сбоку, как продолжение – ещё постройки: одна – невысокая, с черепичной крышей и каминной трубой, вторая – вытянутая, словно сарай или зимний сад, но с окнами в пол. Они не глядели наружу – они впитывали.
Перед особняком – сад. Ровный, расчерченный, с яркими цветами – не лесными, посаженными.
Каждая клумба – композиция. Всё аккуратно. Даже трава подстрижена. Красота как порядок.
Порядок как власть.
За особняком – ещё один сад. Более тёмный. Деревья ближе друг к другу. Зелень гуще. Там – не гуляли. Там скрывались.
И весь этот ансамбль, в долине, залитой мягким светом, выглядел не как центр, а как условие.
Он был тёмным пятном, но не мрачным – собранным, насыщенным, как если бы всё вокруг жило, а он – ждал.
Ничто в нём не было распахнуто, но всё в нём говорило: если войдёшь – не выйдешь прежней.
Окна не светились. Они отражали небо – не зеркалом, а вниманием. Как глаза, что не ловят отражение, а оценивают.
И весь особняк представился ей не зданием, а фигурой. Тем, кто сидит, выпрямившись, и смотрит, не мигая. И не зовёт. Но ждёт.
Словно из сказки.
Но не из той, которую читали детям.
Из той, о которой молчат женщины.
Бабочка не исчезла.
Когда Красная остановилась на краю обрыва, задержала дыхание, чтобы вместить всё, что увидела, и почувствовала, как под рёбрами что-то дрожит – не от страха, от красоты – она ожидала, что бабочка просто растворится, улетит, как исчезают провожатые, когда выполнено предназначение.
Но нет. Она осталась. Не в воздухе – в пространстве. Слегка в стороне. Словно на грани поля зрения, но каждый раз, когда Красная смотрела – бабочка была именно там, где нужно, чтобы сделать следующий шаг.
Она не звала. Не приближалась. Она перемещалась – мягко, уверенно, в том направлении, где трава становилась ниже, а склон – положе.
Красная заметила: это не просто порхание. Это движение с задачей. Словно крылья выбирали воздух с осторожностью, а паузы в полёте были не отдыхом, а проверкой: идёшь ли ты.
Она пошла. Не спеша. Но с тем доверием, которое нельзя объяснить. Не к бабочке – к себе, к той, которая всё-таки поняла: это не игра. Это приглашение.
Тропинка была узкой. Почти не видной с высоты роста. Но она была. Местами выложена камнями, местами просто утоптана ногами. Теми, кто шёл до неё.
Бабочка – всё ещё впереди. Иногда взлетала выше, чтобы показать направление.
Иногда – садилась на травку. Иногда – исчезала за изгибом, но стоило ей свернуть за дерево, как Красная уже чувствовала: вот – туда.
Так они и шли. Одна – ногами. Другая – крыльями. Обе – внутри истории, которая ничего не объясняла. Её принимали как есть.
Спуск получился осторожным. Не из-за крутизны – просто выверенным, словно кто-то позаботился, чтобы путь вниз не стал испытанием, а был переходом.
Бабочка больше не показывалась. Словно решила, что миссия исполнена. И теперь всё зависит от того, дойдёт ли она сама.
Красная шла, почти не чувствуя, как по сапожкам скользит пыль, как подол плаща цепляется за траву. Все ощущения были приглушены одним: внизу – дом. Но прежде чем попасть туда – её встретит ещё кое-что.
Поворот. Второй.
Небольшой овражек с камнями. И – плоское пространство.
Сначала она подумала, что это – часть долины. Поля. Несколько сараев. Но потом, с каждым шагом, начали проступать крыши. Дома. Звуки.
Деревня.
Как она не заметила её раньше – непонятно. Наверное, мешали холмы. Или взгляд искал только особняк.
Но теперь она была здесь. Среди улочек – узких, с каменной кладкой по краям. Среди людей – простых, одетых в грубую ткань. Мужчины чинили забор. Женщины сушили на верёвках бельё. Кто-то возился с корзиной, кто-то нес воду, кто-то – стоял у двери, и смотрел на неё, но не с любопытством – с равнодушием.
Она прошла чуть дальше. И, когда увидела первого, кто шёл навстречу – пожилого человека с корзиной в руках – остановилась. Не решительно. Просто… ей нужно было знать.
– Простите… – сказала она. – Как называется эта деревня?
Он посмотрел на неё. Коротко. Без удивления. Словно знал, что кто-то вроде неё должен появиться.
– Это Старое Лоно, – сказал он. – А вы, видать, вниз?
Она кивнула. Он больше ничего не спросил. Просто пошёл дальше.
А она осталась. С этим названием – слишком мягким, как кожа, которую трогаешь и не знаешь, жива ли.
И только теперь – впервые за весь путь – она почувствовала голод. Не отчётливый. Приглушённый. Но уже – животный.
Постоялый двор притаился на углу, под вывеской с облупившейся краской – на ней был нарисован волк, или собака, или лисица – что-то с хвостом и ухмылкой.
Она вошла. Не потому что решилась. А потому что тело сделало шаг само.
Дверь скрипнула, не громко – скорее со вздохом, словно давно не открывалась незнакомцам. Или, наоборот, открывалась слишком часто, но не тем, кто приходит без приглашения.
Внутри было тепло. Не от огня – от густого воздуха, насыщенного хлебом, жиром, травами, и чем-то ещё – как если бы в стены впитался не дым, а воспоминание о чьей-то коже.
Комната – низкая, тёмная, с потолочными балками. По углам – тени. За стойкой – женщина лет сорока, с густой косой, с рукавами, закатанными до локтей, и с тем взглядом, который видел всё, но ничего не запоминал.
Она кивнула, не спрашивая, кто вошёл. И – всё.
Гости были. Пара мужчин у дальнего стола – ели молча, не поднимая глаз. Пожилая женщина у окна – пряла. Слуг не видно. Но тарелки появлялись. Значит, кто-то есть.
Красная не знала, что делать. Ноги сами шагнули к лавке у стены, ближе к очагу, где потрескивали дрова, и воздух был сухим.
Она села. Плащ всё ещё капал. Сапожки – испачканы, но никто не смотрел.
К ней не подошли. И в этом было странное спокойствие. Словно её уже ждали, но не собирались навязываться.
Она огляделась. На стене – старая гобеленовая ткань. Изображение – тёмное, выцветшее, но среди узоров можно было различить фигуру в плаще. Алом. Почти как её.
Она не успела подумать – как на стол перед ней тихо поставили миску. Суп. Что-то вроде похлёбки. Горячей. С паром. Без хлеба. Рядом – глиняный кувшин с водой.
Она не сразу поняла, кто обслуживает столы. Сначала казалось, что всё происходит само собой – пища появляется, кувшины меняются, и никто при этом не двигается. Но потом взгляд зацепился – за движение в тени.
Двое.
Мальчик и девочка. Лет восьми, может меньше. Оба – в простых серых рубашках, с одинаковыми светлыми волосами, прибранными так аккуратно, будто кого-то мучила идея, что всё здесь должно быть чисто – даже у детей.
Они двигались безшумно. Слаженно. Он нёс посуду. Она – кувшин. Он ставил – она вытирала край. И ни один не смотрел в глаза.
Красная наблюдала. Незаметно. С каждым их движением ей становилось всё больше не по себе – не от них, а от ощущения, что они не играют, не учатся, а служат.
Слишком хорошо. Слишком безошибочно.
Наверное, дети хозяйки, или внуки. Но ни она, ни кто-то другой не улыбался им.
Не говорил с ними. Не хвалил. Они были частью мебели. Частью заведения. Как ткань на стене. Как огонь в очаге.
Они прошли мимо неё. Не быстро. Не медленно. В ритме, который был ей знаком – по дому, где она жила с матерью и сёстрами, по кухне, где девочки сновали босиком, по внутренним шорохам, из которых складывалась тишина – не как мир, а как приказ.
Она не сказала ни слова. Они – тоже. Но когда девочка вытерла каплю с края её миски, а мальчик поставил рядом чашу с варёными зёрнами – не спрашивая, она поняла: её присутствие уже принято. Здесь. В этом доме. В этой деревне. На этом пути.
Она почти доела, оставив немного похлёбки на дне миски, не от пресыщения – от странного чувства, что до конца не стоит. Никогда не стоит до конца.
Дети уже исчезли. Очаг потрескивал ровно. Остальные гости, казалось, растворились – или просто сидели так тихо, что воздух не улавливал их присутствия.
И тогда она услышала шаги.
Не мягкие, как у детей. Тяжёлые. Гулкие. Уверенные – как у тех, кто знает, что он здесь хозяин, даже если это не его имя на вывеске.
Мужчина в кожаном переднике остановился рядом. Ростом с дверной проём. Руки – широкие. Подбородок небрит. Глаза – не враждебные, но слишком трезвые.
Он не поздоровался. Просто посмотрел в миску, потом – на неё. И сказал, объявляя, а не спрашивая:
– Семь монет.
Она замерла. Не потому, что удивилась. Потому что знала: у неё их нет. Вообще. Ни одной. Рука машинально скользнула к складке плаща, к свёртку – но в нём не было ничего, что можно было бы предложить. Всё, что в нём было, предназначалось не ему.
Она подняла глаза. Впервые – впрямую. И сказала спокойно, без капризов:
– У меня нет денег.
Трактирщик не удивился. Ни на йоту. Просто чуть склонил голову вбок – как если бы оценивал не ответ, а то, как она его произнесла.
– Еду здесь не раздают, – ответил он, не грубо. – Даже тем, кто в красном.
Его взгляд скользнул по плащу. Но не задержался.
– Значит, – продолжил он громче, чтобы все слышали, – придётся заплатить чем-то другим. Или – спросить тех, кто за тебя отвечает.
Пауза. Тишина снова сделалась звенящей. Как перед дверью, которую могут либо открыть, либо оставить закрытой. Навсегда.
– Я могу отработать, – сказала она, не отводя глаз. – На кухне. Я умею.
Он хмыкнул. Не в насмешку – как человек, который это уже слышал.
– На кухне? – переспросил. – На кухне у меня и без тебя полный порядок. Там руки не от жары устают, а от скуки.
Он подошёл ближе. Тепло от его тела было ощутимым. Не жар – тяжесть. Словно рядом стоял не человек, а необходимость.
– Если нечем расплатиться, расплатишься, чем есть. Только не в пару и не у корыта. Мне не посуду драить нужно. Мне нужны гости.
Он показал в сторону окна. Туда, где за мутным стеклом уже собирался вечер, а деревня начинала замирать в своём безмолвном укладе.
– Люди сейчас сидят по домам. Кто с детьми, кто с вином, кто с пустыми руками. Но если ты пройдёшься – в своём плаще, со своей походкой, с этой твоей… – он медленно провёл рукой по воздуху перед ней, словно не касаясь, а указывая – …температурой, и скажешь, что будет танец – они придут.
Она замерла. Не в ужасе. В понимании.
– Я не умею танцевать, – призналась она.
Он усмехнулся. Снова не зло. Так, как усмехаются те, кто знает: всё равно сделаешь.
– А кто сказал, что это должно быть "умело"? Ты просто покажи, что у тебя есть, на что посмотреть.
Молчание повисло между ними. Не как угроза. Как цена. Которая уже лежала на весах.
Он смотрел на неё ещё несколько секунд. Не торопил. Не давил. Просто ждал. Как ждут ответа, который уже слышали. Часто. От других. Потом кивнул. Один раз. И шагнул в сторону, освобождая проход.
– Обойдёшь деревню, – сказал он ровно. – От дома к дому. От крыльца к окну.
Говори, что в трактире будет танец. Новый. Необычный. Для всех желающих.
И отвернулся, будто разговор был окончен. Но всё-таки добавил – уже не глядя:
– До заката. После будет поздно.
Красная встала из-за стола и замерла. Слова ещё не дошли до мышц, но телу уже было ясно: пора.
– Вы не пошлёте никого со мной? – спросила она.
Он обернулся. Улыбнулся – не весело. Как человек, который повидал мир.
– А зачем? Если захочешь сбежать – сбежишь. Если не захочешь – вернёшься.
А если думаешь, что есть куда бежать – сам лес тебя поправит.
Он ушёл, не оглядываясь. И в этом уходе была не грубость. Было знание.
Она осталась у порога. Тёплый воздух трактира за спиной. Прохлада вечереющего дня перед ней.
И выбор – которого, по сути, не было. Потому что тело уже знало, что должно делать. Не чтобы выжить. Чтобы остаться собой. Или узнать, кто ты теперь.
Она поправила плащ. И вышла. Шаг за шагом. На улицу. К первому дому. К голосам, к которым нужно было подойти – не как к людям, а как к зеркалам.
Воздух снаружи был холоднее, чем она ожидала. Не морозный – отстранённый. Как человек, который видит тебя впервые, но сразу знает, откуда ты пришла.
Красная шагнула с порога.
Плащ прилип к ногам – от влаги, от тревоги, от чего-то, что нельзя было стряхнуть. Она не оглянулась. Не потому что гордая. Потому что если сейчас посмотреть назад – ноги не пойдут.
Деревня была не глухой, не мёртвой – жила. Но жила внутри себя. Двери – приоткрыты. Окна – затянуты тканью. Дым – тянется из труб, и в каждом доме – кто-то есть. Но никто не выходит просто так.
Она подошла к первому дому – каменному, с красивым косяком, на котором были вырезаны птицы. Или звери. Или знаки. Постучала. Тихо. Секунда – две – и женщина приоткрыла дверь. В платке, с морщинами, не старуха – взрослая. Глянула. Взгляд – как взвешивание.
– Добрый вечер, – сказала Красная.
Слова вышли ровно. Без дрожи. Но внутри – что-то отозвалось звонко.
– В трактире… будет танец. Сегодня. Один раз. Для всех.
Женщина ничего не сказала. Только кивнула и закрыла дверь. Не хлопнула – просто прекратила контакт.
Как будто речь шла о чём-то обычном.
Красная уже шла дальше. Следующий дом. Потом ещё один.
Кто-то открывал. Кто-то смотрел в окно. Кто-то не открывал вовсе. Но она повторяла. Одни и те же слова. С каждым разом – не громче, но чище. Словно изучала язык, на котором не говорила прежде.
– В трактире будет танец. Сегодня. Один раз. Для всех.
– Танец. Сегодня. Один раз.
– В трактире. Если хотите. Если интересно.
– Для всех. Кто пожелает.
Дети – глазели. Мужчины – молчали. Женщины – понимали раньше, чем она говорила.
И это было тяжелее всего. Она не знала, кто придёт. Не знала, как будут смотреть.
Но знала – это уже началось. Сапожки стали мокрыми. Плечи – чуть опущенными. Но лицо – прямым. Потому что нельзя было просить. Только звать.
И с каждым сказанным «один раз» она чувствовала – этот раз уже живёт где-то в будущем. И он обязательно случится. Потому что она его отдала. Словом. Обещанием.
Она вернулась, когда свет над деревней уже стал другим. Не вечерним – настроенным. Как будто все окна теперь не освещали комнаты, а смотрели наружу – в её сторону.
Плащ был чуть влажным. Ступни – усталыми. Грудь – затаённой. Но в теле уже не было того скованного холода, что мешает сделать первый шаг. Теперь внутри было жарко. Но не уютно. Выжидательно.
Трактир встретил её не тишиной, а звуком. Глухим гудением. Шорохом слов. Дыханием нескольких десятков человек, которые пришли – и теперь ждали.
Она вошла.
Помещение изменилось. Не по форме – по состоянию. Столы отодвинуты ближе к стенам. В центре – пустое место. Сцена. Без помоста. Без занавеса. Просто – пространство. Немного освободившееся от повседневного, но не ставшее чудом. Именно это и пугало.
Гости были. Женщины – сдержанные. Мужчины – не насмешливые, но глядящие с прицельной внимательностью. Кто-то пришёл с детьми. Кто-то – с кувшином. Кто-то – с пустыми руками, но с ожиданием, которое не называли вслух.
Сбоку – у самого очага – сидели музыканты. Не ансамбль. Сборище. Трое.
Первый – старик, почти седой, в драном жилете, с дудкой в руках, и глазами, в которых не было возраста. Только слух.
Второй – высокий, костлявый, с бубном. Пальцы у него были тонкие, но руки – как у кузнеца. На шее – верёвка с пером. Он смотрел на Красную непрерывно, словно ждал сигнала, чтобы ударить – не по инструменту, а по сердцу.
Третий – женщина. Скрипка в руках. Одежда – чёрная, но сшитая ловко. Губы – в сдержанной улыбке. Взгляд – внутрь себя. Она не замечала ничего – пока ни начнётся музыка.
Никто не звал Красную. Никто не аплодировал. Но всё уже было готово.
Плащ на ней почти высох, но оставался тяжёл. Тело под ним – тёплое, гибкое, напряжённое – как перед прыжком, который ещё не выдуман.
Она прошла через помещение. Не скрываясь. Не позируя. Просто – идя. К центру. К точке, в которой всё и должно случиться.
Музыка заиграла неожиданно. Не громко. Не резко. Как будто кто-то открыл окно, и в трактир вполз ветер, не спрашивая.
Дудка – протяжная, с долгими нотами, которые не вели – останавливали. Как будто время растянулось, чтобы дать ей шанс.
Красная стояла. Плащ – сомкнут. Ноги – чуть согнуты, не от страха, от готовности. Руки – свободны. Лицо – ни маска, ни вызов. Просто она.
Первые движения были осторожными. Не от стыда – от желания сделать правильно. Медленный поворот плеча. Плавный наклон головы. Тело шло впереди ума. Как будто вспоминало – не учёбу, а давний, стёртый опыт.
Она ведь видела, как танцуют другие. Когда никто не смотрит. Когда в доме гаснут лампы. Когда остаётся только зеркало – и вопрос: красиво ли это, если никто не оценит?
Теперь – оценивали. Сначала молча. Но взгляды были ощутимы – как тепло от печки.
Она не слышала слов. Но по губам – по мимике, по выражению – видела: кто-то сказал “красавица”. Другой – “гибкая”. Третий просто смотрел – и не моргал.
Она продолжала. Плавно. Ритмично. Ступни двигались по полу неуверенно, но честно. Как если бы она не знала танца, но знала музыку. Точнее – позволила себе её знать. Дать ей вести. Пройти через позвоночник и выплеснуться в запястьях.
Музыка ускорилась. Скрипка вступила. И в этом звуке – смех. И пляс. И вызов.
Красная почувствовала: надо – сильнее. Шире. Выше. Не как артистка. Как та, у кого нет другого выхода, кроме как танцевать дальше.
И она пошла за ритмом. Плечи – ярче. Бёдра – смелее. Повороты – с разлётом, но всё ещё – сдерживая.
Плащ – жил своей жизнью. Он не слушался. Он открывался – не нарочно, но выразительно. На миг – бедро. На миг – голая икра. На миг – грудь в движении, без плоти, но с дыханием.
И всё же она старалась удержать его на месте. Почти машинально. Почти театрально. Как будто танец – это и есть борьба с тканью, которая вот-вот сорвётся.
Скрипка стала дерзкой. Струна натянулась до предела – и слетела в пляс, как если бы всё, что сдерживалось, наконец-то получило разрешение говорить.
Красная уже не танцевала – плясала. То есть – втекала в звук, впускала его в суставы, в дыхание, в волосы, в изгиб позвоночника, в откинутую голову, в шаги, что становились всё шире, всё смелее, всё ближе к себе.
И плащ – уже не скрывал. Он мешал. Он норовил соскользнуть с плеч, закручивался вокруг ног, прилипал к телу.
Руки то придерживали его, то забывали. И зрители видели это – эту погоню за ускользающим покровом. Не за тайной. За контролем.
Но музыка не ждала. Бубен бил чаще. Дудка – взвизгивала. А тело – шло вперёд.
И в какой-то момент поворот оказался слишком резким. Плащ соскользнул с одного плеча. Она – подхватила. Потом – снова упустила. Потом – перестала ловить.
Он остался висеть – на сгибе локтя. Потом – на запястье. А потом – упал. Тихо. Без хлопка. Просто оказался на полу. Как будто сам понял: его роль сыграна.