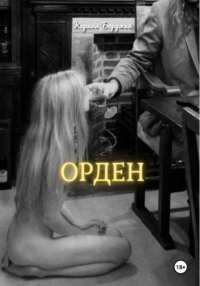Полная версия
Красная: Начало боли
Красная, наконец, ответила – с усилием, с запаздыванием, как если бы голос пришлось вытягивать изнутри.
– Я иду туда, где ждут.
– Здорово, – сказала девочка. – У нас все тоже так говорят. Потому что если тебя не ждут, ты – не настоящая.
Она улыбнулась. Открытой детской улыбкой. Без подтекста. Без игры. И Красная в этой улыбке увидела всё, чего у неё больше нет.
– Извини, я побегу, – сказала девочка. – Нас трое. Они уже, наверное, ждут. Мы идём вместе. Мама сказала, лес примет, если мы будем держаться рядом.
– Мама? – переспросила Красная. Тихо. Почти непроизвольно.
– Ну да. Она же нас всех собирает. Сестёр. У тебя тоже, наверное, такая? С белыми руками и холодным голосом? Она говорит, мы рождены не зря. А ты, если Красная, – точно рождена.
И побежала.
Смех её ещё был слышен сквозь деревья. А потом исчез. Как исчезает запах после того, как сгорела свеча. Остаётся тепло – но оно не твоё.
Красная стояла. Долго.
И тогда в голове сложилась мозаика: домов – много, матерей – много, сестёр – безконечное количество. А путь – один. Всё повторяется. Она – не единственная. Она – очередная.
И всё же… она шла дальше. В плаще. Со свёртком. Со странной негой в беззащитном теле. Потому что даже если ты – не первая, даже если ты – не одна, ты всё равно должна идти.
Нужда
Она вышла на просвет неожиданно. Лес расступился – неохотно, но вежливо. Как будто уступал место чему-то старшему. Свет здесь был другим. Не ярче. Просто более точным. Он не освещал – он подчеркивал.
И сразу увидела его.
Стоял – не на тропе. Чуть в стороне. Не скрывался. Но и не выходил вперёд. Просто был. Как будто стоял так давно, что лес начал расти вокруг него.
На нём не было плаща. Ни доспехов, ни меха, ни оберегов. Только тёмная одежда – простая, сухая, как пепел. Кожаные сапоги. Рубаха с распахнутым воротом.
На руках – следы земли. На шее – ничего.
И всё же – она знала. Безошибочно. Он – Волк.
Не по зубам. Не по глазам. А по тому, как мир в его присутствии становился другим.
Всё замирало, но не замерзало. Пространство не сжималось – оно затаивалось. Как перед прыжком. Или перед исповедью.
Он стоял спокойно. Без напряжения. Но тело его казалось собранным внутрь, как если бы под кожей жила другая форма.
Глаза – не хищные. Наоборот, внимательные. Цвет – неразличим: что-то между карим и серым, как кора, как мех, как ничто определённое. Но взгляд… Он не смотрел на неё. Он держал её.
И она поняла: он не узнал. Он помнил.
Не имя. Не лицо. Суть. Как если бы они уже были связаны. Раньше. Иначе. В другом теле. В другой истории.
Она не пошла к нему. И он не шагнул к ней. Но пространство между ними стало насыщенным – как если бы оно дышало за двоих.
Он наклонил голову чуть вбок. Ненавязчиво. Словно спрашивал, не открывая рта.
Ты знаешь, кто я?
Она не кивнула. Но взгляд – остался.
Я знаю, кем ты стала.
Он не улыбнулся. Но что-то в линии губ дрогнуло. Не насмешка. Признание.
Потом он отступил. Не развернулся. Не ушёл. Просто исчез. Не в воздухе – в лесу, который принял его, как часть себя.
Красная осталась стоять там, где остановилась. Ноги – гулкие. Грудь – наполненная, как после так и не завершённого вдоха. Всё внутри словно дрожало, но не от страха. От чего-то другого. Более сложного. Как будто внутренности под кожей узнали его – раньше сознания. И теперь пытались прийти в себя.
Она опустила взгляд.
На земле – ничего. Трава – не примята. Листья – нетронуты. Даже воздух – будто отказывался признавать, что кто-то был.
И всё же…
В одном месте – рядом с деревом – кора была тёплой. Она подошла. Прикоснулась. Не обожгло. Но и не остыло. Тепло было не от солнца. А как от тела, которое долго стояло здесь, молчало, смотрело, дышало в неё.
Она не отдёрнула ладонь. Наоборот – приложилась ближе. Лбом. Щекой. Словно надеялась: может, в этом дереве ещё остался звук его взгляда.
Потом выпрямилась. Выдохнула. По-прежнему медленно.
Как будто дыхание не вышло наружу – а расплавилось внутри, растеклось между бёдер, по животу, к груди. Она прижала свёрток – слишком близко. И тут поняла: соски – напряжены. Кожа – чуть влажная. Между ног – жарко, как после сна, где тебя не трогали, но заставили проснуться от стона.
Плащ всё ещё был на ней, но только для того, чтобы вскользь касаться, а не закрывать.
Каждый шаг отдавался глухим ответом в паху, как будто тело помнило, чего не произошло – и хотело продолжения.
Она пошла дальше. Но походка уже не была прежней. В ней была ленивая плавность, как у женщины, которая была желанной, но не была взята.
И лес чувствовал это. Мох становился мягче. Воздух – теплее. Листья склонялись ниже, как будто тоже ждали, когда она снова остановится.
А она знала – это было ещё не прикосновение. Это было его обещание. И теперь оно – в ней. Живое. Готовое. Горячее.
Сначала она подумала, что просто тянет живот. Как голод. Или спазм. Будто тело просит обычного, понятного – воды, еды, отдыха. Но чем дальше она шла, тем отчётливее понимала: это не про усталость.
Боль была мягкой, расползающейся. Тепло – странным, перемещающимся. Она попыталась не обращать внимания. Сделала ещё несколько шагов – сосредоточенно, почти упрямо.
Но живот отзывался всё явственнее. Глубже. Пульсировал – как если бы внутри что-то жило, готовилось, разворачивалось.
Ей стало казаться, что это просто позыв, обычный, телесный. Надо – найти место.
Освободиться. Вернуться к себе.
Она огляделась.
Слева – трава гуще. Справа – кустарник. Но всё это было не тем. Слишком близко к тропе. И тогда, чуть дальше, на пригорке, она увидела небольшую поляну. Возвышение – словно сделанное для ритуала. Или для отдыха. Или – для того, чтобы остаться на виду, но не чувствовать стыда.
Она свернула туда. Поднималась медленно, как если бы тело всё ещё не решалось признать, зачем оно идёт.
На вершине возвышения она остановилась. Прислушалась к себе. Да – живот ныл. Низко, тянуще, медленно нарастающе. Внутри – тепло и тяжесть. Она сжала бёдра. Потом, не торопясь, распахнула плащ. Оглянулась – машинально. Но в лесу – никого.
И только тогда, осторожно, как будто не до конца веря, что имеет право, – присела. На корточки. Прямо на траву, на сухую, тёплую землю, на место, которое само будто подставилось под неё.
Она ожидала облегчения. Но вместе с ним пришло нечто другое. Как будто сама поза, сама близость к земле, сама её уязвимость – раскрыли что-то ещё.
Тепло внутри – не ушло. Оно стало шире, как если бы что-то в ней улыбнулось.
И она вдруг поняла: всё это время она не хотела справить нужду. Она просто искала место, где можно было бы стать собой – такой, какая она есть без прикрытий, без слов, без роли, просто – голой, жалкой, но живой.
Когда всё закончилось, она ещё какое-то время не вставала. Тело – расслабилось, но не обмякло. Просто стало присутствующим – тяжёлым, согретым, наполненным, как после купели.
Потом она опустила взгляд. На себя. На землю. На то, что осталось.
Маленький бурая колбаска – ещё тёплая, влажная, лежала на траве, в самом центре пригорка. Нечто безспорно её. Не подделка. Не след кабана. Не аллегория. След, слишком личный, чтобы быть описанным, и слишком настоящий, чтобы исчезнуть.
Она смотрела на него – не с отвращением, не с неловкостью. С удивлением. Как будто только сейчас поняла: тело не просто идёт. Оно оставляет. И это тоже – часть пути.
Никто не научил её видеть в этом признание. Но что-то в ней знало: так метятся животные, так начинаются ритуалы, так говорят с землёй, когда слов больше нет.
Она выпрямилась. Не торопясь. Почувствовала, как ветер тронул кожу между ног – теперь особенно обнажённую, не от отсутствия ткани, а от признанного факта: я существую.
И на секунду ей захотелось оставить всё как есть. Остаться без прикрытий. Без плаща. Чтобы любой, кто пройдёт мимо, понял: здесь была та, кто не притворялась.
Но она всё же накрыла себя. Плащ лёг мягко, покорно. Не как маска. Скорее – как повторное рождение.
Она не знала, увидит ли кто-то это место. Но оно уже было. Как родинка на теле леса.
Как метка. Как начало другого дыхания.
Она стояла, чуть наклонившись, расставив ноги – ещё не одетая, ещё не ушедшая с пригорка.
Ветер обдувал бедра, трогал рыжую чёлку между ними, а на земле, прямо под ней, – была она. Оставленная. Видимая.
Рука машинально потянулась к ближайшему кусту – в надежде найти что-то мягкое, подходящее.
Лист. Корешок. Что угодно.
И тогда – раздался голос. Мужской. Спокойный. Вкрадчивый. Словно говорил не сзади неё, а изнутри.
– Лист будет слишком грубым. Возьми это.
Она вздрогнула – не от страха. От точности момента. Оглянулась. Очень-очень медленно. Как будто знала, кого увидит – но всё равно хотела проверить.
Он стоял у подножия пригорка. Не подкрался. Не спрыгнул сверху. Просто был. Как если бы всё время стоял там, ждал, смотрел, и выбрал этот самый миг.
В руке – сложенный платок. Шёлк. Красный, как зрелая ягода. Гладкий.
Не от человека, который живёт в лесу.
Он протянул его, улыбаясь. Не хищно. Не вызывающе. А так, как улыбаются те, кто уже знает, что их воспримут всерьёз.
– Не торопись, – добавил он. – Только не претворяйся, что тебе неловко.
Она смотрела на него. Не делая ни шагу. Не говоря ни слова. Только дышала – так, как дышат, когда тело всё уже поняло, а разум ещё пытается придумать, как себя вести.
Незнакомец не поднимался на пригорок. Не приближался. Платок всё так же лежал в его ладони – шёлковый, новый.
– Он чистый, – сказал незнакомец, подтверждая её мысли. – И я не тороплю.
Она продолжала молчать. Но уже не пряталась. Плащ – распахнут. Бёдра – голые.
След под ней – видимый. И в этом всём – спокойствие, которое раньше было ей незнакомо.
Она разогнулась, поднялась в рост. Без спешки. Подошла к краю пригорка. Опустила взгляд на его руку. И только потом – на лицо. Глаза, губы, скулы, линия шеи – всё было человеческим.
Он не был похож на Волка. Волк был похож на него.
Она протянула руку. Взяла платок. Он не сжал пальцы, не задержал ткань. Отдал – как если бы она была её с самого начала.
И тогда, не отводя глаз, Красная опустилась на корточки. Снова. Но уже не как прежде. Не чтобы спрятаться. А чтобы закончить начатое – при нём, в его тишине, в его дозволении.
Она вытерлась – неторопливо, почти грациозно. Как будто прикосновения платка были не к телу, а к памяти о том, кто она есть.
А потом встала. Повернулась к нему лицом. Не отдала платок, а аккуратно уложила на землю. Между ними. Как метку. Как вызов. Как знак, что стыд – это то, что оставляют до входа в лес.
Он кивнул. Только один раз. С уважением. И улыбка стала тише. Глубже. Готовой к продолжению.
Дождь
Он сделал первый шаг к пригорку только после того, как она завернулась в плащ. Он никуда не спешил. Словно позволял ей выбрать – продолжить или исчезнуть.
Она стояла прямо, спокойно, но внутри что-то сжималось – не от страха, а от слишком точного предчувствия.
И потому – улыбнулась. Тонко. Почти дерзко. Как будто это ей принадлежал момент, а не ему.
– Вы, случайно, не тот, кто обычно спрашивает: «Куда ты идёшь, Красная Шапочка?»
Он остановился. Улыбнулся в ответ. Улыбкой взрослого, который в курсе всех правил, и потому играет в них медленнее, чем нужно.
– А ты, случайно, не та, кто отвечает чересчур честно? Про пирожки, масло – и бабушку за мельницей?
Она пожала плечами. Как бы между прочим. Но пальцы на свёртке сжались крепче.
– Может, я решила, что эта сказка давно просит переписать её.
– А может, ты просто дошла до той части, где начнётся правда, – отозвался он. – И теперь хочешь немного поиграть в ребёнка, пока не придётся расплачиваться за взрослость.
Она смотрела на него. И не отступала.
– А вы не боитесь, что я выберу другую дорогу?
Он усмехнулся. Почти ласково.
– Я не за тем спрашиваю. Я просто хочу знать, по какой ты пойдёшь, когда выберешь не умом, а телом.
Она не ответила. Но шагнула с пригорка. Мимо него. Близко. Так, что почти зацепила воздух между ними бедром.
И шепнула, уже проходя:
– Посмотрим, кто из нас быстрее дойдёт.
Он не обернулся сразу. Дал ей сделать ещё один шаг – как свободу. Потом – заговорил. Не громко. Просто – чтобы слова настигли её между лопаток.
– Ты знаешь, куда идёшь?
Она замерла. Не от неожиданности – от точности удара. Эта фраза пробирала не в уши. В живот. В пах. В сердце.
Растерянно обернулась. Взгляд – полуулыбка, полуиспуг. Только страх не перед ним. Страх, что знает ответ – и не хочет говорить.
– А вы всегда спрашиваете, когда уже сами знаете?
Он поднял брови. Шагнул ближе. Почти лениво. Почти вежливо.
– Иногда спрашиваю, чтобы убедиться. Иногда – чтобы дать шанс не врать.
Она стояла прямо. Но плащ чуть сдвинулся – не вниз, а вбок. Оголилось плечо. Совсем чуть-чуть. Но достаточно, чтобы почувствовать воздух. И его взгляд.
– И если я скажу, что иду к бабушке?
– Тогда ты всё ещё в сказке.
– А если скажу, что иду – к себе домой?
– Тогда ты уже в лесу.
Они смотрели друг на друга. Как до прикосновения, которое никто не сделал. И никто не отменил.
Он улыбнулся и сказал – почти беззвучно:
– Посмотрим, кто из нас первый поймёт, где ты окажешься на самом деле.
Она чуть склонила голову. Улыбнулась исподлобья уголком губ – не как девочка, не как женщина, а как та, кто уже знает: если дрожишь – улыбайся.
– Может, я не спешу это понять, – сказала она. – Пока иду – я всё ещё своя. А когда пойму… посмотрим, чьей стану.
Голос её был ровным. Но под плащом – соски напряглись. Внизу – снова тёпло.
Тело слышало, что всё сказанное было настоящим.
Она сделала ещё шаг. Повернулась спиной. Но не ушла сразу.
– А вы…
– Да? – сказал он.
Она не обернулась.
– Не теряйте меня слишком быстро. Иначе я подумаю, что всё это было зря.
И пошла дальше. Не играя. Живя.
Она ушла, не обернувшись, и именно этим оставила ему всё пространство.
Волк стоял молча. Слушал, как её шаги растворяются в лесу, как плащ то задевает ветки, то скользит по воздуху, как бёдра движутся уже не по дороге, а по обещанию, которое она сама себе дала.
Он не пошёл за ней. Не двинулся с места. Потому что следовать – значит признать зависимость.
А он был другим.
Только тогда, когда звук её шагов стал совсем мягким, он поднял руку. Ту самую, в которой держал платок. Теперь – пустую.
Наклонился. Поднял с земли то, что она оставила – не саму ткань, а жест, решимость, новую границу между ней и всеми остальными.
Он не уносил платок. Он провёл им по запястью, медленно, как по коже женщины.
А потом – повесил на нижнюю ветку ближайшего дерева. Чуть выше уровня глаз.
Чтобы она увидела, если вдруг вернётся. И чтобы знала: он здесь был. И – ещё будет.
Потом задумался. Провёл пальцами по давно не бритому подбородку. Вдохнул – не воздух, а её остаток.
И исчез. Не в тени. В сценарии, который теперь ждал только её согласия, чтобы воплотиться.
Красная тем временем продолжала свой путь, стараясь держать шаг ровным, как дыхание, будто само движение могло быть ответом на вопросы, которых она ещё не успела сформулировать, и долгое время ей действительно казалось, что всё ясно: тропа под ногами не терялась, лес не сгущался в нечто враждебное, а плащ всё ещё ощущался на плечах как граница и оберег.
Она вспоминала, как мать, с тем своим особенным тоном – не мягким, но безапелляционно заботливым, – говорила: «Держи солнце перед собой. Иди туда, куда оно зовёт. Оно укажет».
И тогда это казалось ей не просто указанием, а почти благословением: солнце – как живая ниточка, как собеседник, как то, что не подведёт.
Но в лесу всё устроено иначе. Здесь свет – не спутник, а игрок. Он дробится в листве, пляшет по веткам, исчезает за стволами. Она уже давно поняла, что солнце, даже когда оно есть, не даёт направления, а только сбивает с толку, заставляя гадать, в каком из пятен – правда, а в каком – просто случайная милость неба.
А теперь, когда над верхушками деревьев постепенно сгущалось молочное, вязкое нечто – не тьма, не гроза, а скорее равнодушие неба, солнце и вовсе исчезло, словно обиделось, что его указания не восприняли буквально, или, быть может, решило, что дальше она должна идти сама.
Красная остановилась – не потому что испугалась или устала, а потому что в какой-то момент заметила: шаги её стали неуверенными не из-за пройденного пути, а из-за неопределённости внутри, которая напоминала чувство, когда стоишь перед зеркалом и вдруг не узнаёшь выражение на собственном лице.
Тропа под ногами всё ещё была, но её линии начали расплываться, ветки словно сменили язык, и всё вокруг будто притихло, ожидая, выберет ли она случайное направление – или осмелится признать, что не знает, куда идёт.
Она теперь стояла, не двигаясь, пытаясь нащупать направление не по тропе, а по внутреннему зову, который, как назло, становился всё слабее, и именно в этот момент – не громко, не эффектно, а с почти вежливой постепенностью – начался дождь.
Сначала она услышала его, не как звук, а как смену атмосферы, как если бы лес втянул воздух и больше не стал его выдыхать. Потом – первые капли. Они не ударяли, не били по плечам, а ложились, мягко, одна за другой, будто небо решило прикоснуться к ней без предупреждения, но и без враждебности.
Она подняла лицо, вдохнула – и почувствовала, как капли прокладывают путь по лбу, по вискам, по шее, а потом – вниз, под ворот плаща, будто проверяя, где она ещё тёплая, где ещё защищена, а где уже можно войти.
Дождь усиливался неспешно, как будто лес специально не хотел её пугать, а просто смывал с неё всё лишнее.
Путь, что был ещё недавно очевиден, стал расплываться, листья потяжелели, ветви опустились ниже, а земля под ногами – размякла, словно и она, как тело, впитывала всё, что полилось с неба без остановки.
Плащ быстро намок – не насквозь, но достаточно, чтобы ткань стала тянуть вниз, напоминая: ты несёшь не только себя, но и всё, чем уже была.
Красная не бросилась искать укрытие. Не торопилась. Просто стояла, с ощущением, что дождь – не враг, а голос, говорящий без слов: ты больше не под чьим-то светом. Ты теперь – в себе.
И это пугало. И звало. Одинаково.
Дождь не хлестал. Он шёл. Непрерывно, равнодушно, будто давно решил, что будет идти столько, сколько потребуется, чтобы разобрать её на слои – ткань, кожу, запах, дыхание.
Плащ давно перестал быть защитой. Ткань напиталась водой, тяжело прилипала к плечам, к пояснице, к груди, и каждый шаг становился похожим не на продвижение, а на сопротивление чему-то, что хотело её замедлить.
Тропа расплылась в мокрых листьях. Ветки осели. Земля пружинила под сапожками – мягко, вязко, как если бы старалась удержать.
Она остановилась. Не от страха. И не от отчаяния. Просто – пришло понимание: идти дальше так – значит идти в никуда. В пустоту, которую она не выбирала.
Смахивая капли с ресниц и бровей, она огляделась. Нигде ни одного ориентира. Солнце спрятано. Тени стерты. Звук дождя – единственный ритм.
И тогда она присела под огромным деревом, чьи корни уходили глубоко, а ствол вздымался навстречу небесной влаге. Под его кроной не было сухо, но и не так мокро, как снаружи.
Она выжала край плаща. Вода текла по пальцам, капала на бедро, а с бедра – вниз, по внутренней стороне, напоминая, что влажность бывает разной.
Грудь – зябкая, но живая. Пальцы – дрожат, но не от холода.
Она закрыла глаза. И только тогда позволила себе подумать: о нём.
О взгляде, о голосе, о платке, о том, как он стоял и не прикасался – но трогал каждую мысль.
И это было не спасение. Это было обострение.
Пальцы легли на живот. Не ласково – внимательно. Словно искали ответ – не в голове, а в той точке, откуда начинается зов.
И она выдохнула. Слово. Тихо. Без украшений. Без притворства.
– Волк…
Не как команду. Не как просьбу. А как признание. Она знает, кто ей нужен. И не потому, что он придёт, а потому, что он уже где-то тут, в ней.
Она сидела под деревом, не укрытая, а лишь частично защищённая его тяжёлой кроной, и дождь не прекращался, но стал ровным, как дыхание уставшего зверя, которое не пугает, а напоминает, что ты здесь не одна, только если сама признаешь присутствие.
Плащ намок, ткань тянула вниз, липла к груди, к животу, к бёдрам, а сапожки, хоть и держались, уже напитались водой, и теперь каждый шаг был бы тяжёлым, похожим не на движение вперёд, а на поступь сквозь вязкую неуверенность.
И всё же – она сидела. Молча. Слово было сказано. Имя – выдохнуто. Но ответ не приходил.
И в этой тишине, которая обычно звенит ожиданием, а сейчас – только давила, вырисовался выбор. Она могла позвать ещё раз. Громче. Отчаяннее. Как девочка, потерявшаяся в чужом лесу.
Она могла – почти машинально – вспомнить Охотника, того, кто предлагал уйти, кто трогал, как будто мстил, и кто, возможно, всё ещё следит, выжидая, когда она сломается и позовёт его, как меньшее зло.
Она могла бы и вовсе – просто крикнуть. Без имени. Позвать на помощь. Всего лишь потому, что тело хочет быть найденным, пусть даже кем угодно.
И, наконец, она могла не звать никого. Потому что зов – это признание. Потому что звать – значит верить, что ты недостаточна сама.
Она могла пойти дальше. Медленно. Упрямо. В дождь, в туман, в серый воздух, где нет ни дороги, ни солнца, только земля под ногами и груз свёртка на груди.
И она стояла, не делая ни шагу, потому что каждый из вариантов вёл к чему-то необратимому. Ни один не обещал тепла. Ни один не гарантировал исхода. Но любой – делал её той, кого она выбирала.
И в этой точке времени и пространства в ней всё замерло. Слушало. Не дождь. Себя.
Если позвать его, Охотника, не по имени, а по сути, просто выдохнуть: «Если вы всё ещё рядом…», то он придёт. Не из тумана. Не из деревьев. А просто войдёт в пространство, как если бы всегда был в двух шагах, просто ждал сигнала, как хищник, который умеет выглядеть спасителем.
Он будет мокрый – не насквозь, но достаточно, чтобы ткань рубахи липла к телу. Лук за плечами. Взгляд – не голодный, а знающий. Такой, в котором нет обещаний, но есть расчёт.
Он не спросит, зачем звала. Не скажет: «Я знал, что ты не справишься». Просто подойдёт. Остановится рядом. И молча разожмёт кулак, в котором будет верёвка, или пояс, или просто рука – тёплая, сухая, властная.
Она поднимет взгляд. Он скажет: «Долго же ты держалась. Теперь – хватит».
Он не станет ласковым. Он не будет спрашивать, хочет ли она. Он будет уверен, что она позвала – не за защитой, а за наказанием.
Плащ – сорван. Сапожки – сдёрнуты грубо, вместе с грязью. Он поднимет её за руку, заставит встать коленями в мох. И тело – задрожит не от страха, а от того, что фантазия не остановлена.
Он тронет её между ног. Не ласково. Не унизительно. А так, будто проверяет степень готовности.
Ты промокла не от дождя – это видно.
Он выдохнет ей в ухо:
– Тебя не надо спасать. Тебя надо использовать, иначе ты себя сожжёшь изнутри.
И она представит, как он входит – быстро, резко, без слов. И не потому, что может, а потому что она позволила, когда позвала.
Она увидит, как дрожит, не от холода, а от того, что слишком долго была целой.
И в этом образе – нет любви. Нет даже ласки. Есть нечто, что будоражит глубже, чем поцелуй.
Потому что это – не фантазия о спасении. А фантазия о том, что кто-то возьмёт на себя ответственность за её слабость.
А если просто крикнуть? Без имени. Без надежды. Без гордости, которая всё ещё держит её за ноги, и не даёт бежать.
Если просто раскрыть рот и сказать: «Кто-нибудь…» или даже ничего не сказать, а просто позволить голосу вырваться – хрипом, стоном, рыданием, чем угодно, только бы кто-нибудь пришёл.
Она представляет, как это могло бы быть. Как в ответ на звук, на трещину в мире, в лес войдёт тот, кого никто не звал по имени.
Он может быть высоким. Может быть согбенным. В капюшоне. Без лица. С мешком за плечами. С глазами, которые видели слишком многое, и теперь смотрят вглубь, а не на неё.
Он скажет:
– Ты звала.
И не спросит, зачем. Не спросит, кто она. Для него она – просто ответ. Просто добыча. Просто тело, промокшее до мурашек. Он не будет добрым. Не будет жестоким.
Он будет – ролью. Как дверь. Как нож. Как сон без смысла.
Он может обнять – но не утешить. Может вытереть ей лицо – но не запомнить его. Может снять с неё плащ – и оставить себе, потому что ему тоже холодно.