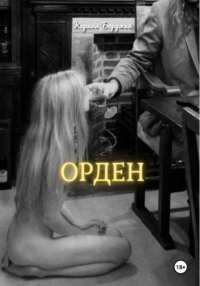Полная версия
Красная: Начало боли

Кирилл Борджия
Красная: Начало боли
Имя
На прошлой неделе ей исполнился двадцать один год, и с того утра мать больше не называла её по имени – не от злости, не по рассеянности, а потому что пришло время, потому что так было заведено в их доме испокон веков: в день рождения девочки переставали быть дочерьми, и начиналось молчание.
Раньше её звали по-всякому – ласточка, мышка, солнце моё, – звали тихо, с привкусом заботы, с нежностью, в которой прятался страх, будто мать не столько любила, сколько охраняла, как свечу от ветра, оберегая то, чему ещё рано гореть, но уже нельзя гаснуть, – а теперь не звали вовсе, и в этом отсутствии голоса таилось больше, чем во всех словах.
Она слышала, как мать окликала старших – трижды, в разные годы, каждую по имени, в последний раз – накануне дня, когда появлялся свёрток, и плащ, и молчание, и сама она тогда ещё не понимала, почему сестра уходит к бабушке, и почему никто потом не говорит о ней ни слова, не ставит свечу, не вспоминает, не плачет, – только мать, иногда, глядит на стену, где нет ни портрета, ни надписи, лишь белизна, которая, кажется, когда-то отвечала ей взглядом.
Имя, которое раньше было её, исчезло так, будто его смыло дождём или высушило ветром, и на его месте осталось одно – не произнесённое, но подразумеваемое, чужое и всё же точное, как перчатка, сшитая под кожу: Красная Шапочка.
Так звали и других – она знала это, слышала краем уха, вычитала в затертых записях, узнала не от людей, а от предметов, – так называли каждую, кому исполнялось двадцать один, кто принимал плащ и шёл через лес, к бабушке, которую никто никогда не видел, но все знали, как будто она не жила где-то, а ждала в каждом, кто уходил.
И в утро, когда на табуретке у двери она увидела свёрток, обтянутый холстом и перевязанный бечёвкой, а сверху – тот самый алый плащ, чуть выцветший, подштопанный у подола, – её не охватил ужас, не возникло даже вопроса, только странное чувство узнавания, будто не она подошла к свёртку, а он – к ней, спустя долгие годы, полные снов, предчувствий и тишины.
Мать не объясняла ничего, как и прежде, просто сказала: «Ты отнесёшь это бабушке», – и, когда девушка спросила, где живёт бабушка, ответила: «Ты вспомнишь», – и в этот момент она поняла, что знает не умом, а телом, костями, сном, который снился ей в семь лет, когда в доме была старуха с шепотом, похожим на мамин, но глубже, который громко прошелестел: «Она спросит, кто я. Скажи – гостья. И пусть запомнит голос».
И теперь она его вспомнила. И пошла.
Первый шаг
– Хорошенько умойся, – сказала мать, не глядя. – Целиком. До ногтей. И ушла, оставив дверь приоткрытой, как будто не стоило прятаться. Как если бы всё, что дальше, уже не её забота.
Красная долго стояла на месте, не двигаясь, будто не услышала. Но она слышала. Просто не могла сразу пошевельнуться – не от страха, а от той странной тяжести, что ложится на тело, когда ему сообщают: сегодня оно станет чем-то большим, чем просто плотью. Сегодня – оно послание. Проводник. Свёрток без обёртки.
Таз с водой уже стоял на лавке, рядом – кувшин, кусок твердого мыла, серая ткань, выстиранная до мягкости. Комната – узкая, низкая, тёмная, освещалась косым светом из окна, где паутина колыхалась от сквозняка. На стене – зеркало, в железной раме, старое, с пятнами времени, с вкраплениями ржавчины и тенями тех, кто смотрел в него до неё.
Она сняла платье – ту самую, простую, холщовую рубаху, которую носила почти каждый день, и осталась в чулках, потом и их спустила, аккуратно свернула, положила на табурет. Всё это – неспешно, как будто снимала с себя не одежду, а роль. Осталась босой, обнажённой, с плечами, на которых дрожала тень света.
Подошла к зеркалу.
Тело, что смотрело на неё, было знакомым – и новым. Девичье, но уже с теми признаками, которые раньше вызывали в ней тревожную гордость: грудь – не большая, но упругая, с розовыми сосками, затвердевшими от холода; живот – ровный, с едва заметным углублением пупка; бёдра – широкие, как у сестры, что ушла первой; ноги – крепкие, загорелые, с тонкой линией волос на голенях, которую она сбривала лишь однажды, втайне, из любопытства.
Лицо в зеркале было другим. Не как у тела. Оно смотрело в сторону, как будто знало больше. Щёки – немного впалые, губы – полные, приоткрытые, будто собирались что-то сказать. Брови – чёткие, взгляд – тяжёлый, не потому что хмурый, а потому что нёс ответ, который ещё не прозвучал. Шея – длинная, ключицы – острые, как крылья.
Она провела пальцами по животу, потом выше, к груди, сжала её – не от похоти, а чтобы проверить: она ещё чувствует. Почувствовала. Лёгкое покалывание. Щекотку. Живое.
Повернулась боком. Оглядела спину, ягодицы, изгиб бедра. Там, в зеркале, была женщина. Незрелая – но уже не девочка.
В этот момент она ощутила: поблизости кто-то есть.
Не шаги, не звук, – ощущение, будто воздух сдвинулся. Будто взгляд лёг на лопатки. Будто кто-то смотрел – и радовался тому, что видел.
Она не обернулась. Не прикрылась. Только выпрямилась чуть сильнее, подбородок подняла, как учили – не словами, а примером. Послушная дочь не боится. Послушная дочь знает: тело – не её, если время пришло. Оно – часть пути. Оно – свёрток. Его осматривают, его проверяют, его отсылают.
Она взяла кувшин, налила тёплую воду в таз. Вода вспыхнула мягким паром, облизала её ноги, как язык зверя. Она опустилась на колени. Начала с рук – тщательно, будто каждый палец нужно было отпечатать на новой коже. Потом грудь. Живот. Бёдра.
Ниже – не спеша. Мать говорила: до ногтей.
Пока мылась, чувствовала – взгляд всё ещё здесь. Не в комнате – в мире. Как если бы лес уже проснулся и смотрел сквозь стены. Сквозь зеркало. Сквозь неё.
И она не дрожала.
Потому что всё было правильно.
Потому что ей уже двадцать один.
Потому что она – Красная.
Она мыла волосы, как велела мать – тщательно, будто вычёсывала из них прежнюю себя, и с каждым движением прядь за прядью всплывало чувство, что этот цвет – не случайность, не каприз крови, а знак.
Рыжие – не золотые, не медные, не солнечные, а именно рыжие, цвета багряного яблока, цвета ожога, цвета плаща – они спадали по плечам тяжёлыми волнами, тёмные от воды, тяжёлые, как обещание. Она всегда стеснялась их в детстве: другие дразнили, шептались, говорили, что это ведьмин цвет. А мать однажды сказала: «Ты красная не снаружи. Ты изнутри такая. А волосы – просто метка, чтобы не потеряться».
Вода стекала ласково, по лопаткам, вдоль спины, между ягодицами – и туда, ниже, где волосы были того же цвета, – и ей стало ясно: она не просто Красная, потому что так её назвали. Она была этой Красной. Не одежда, не плащ, не традиция, а тело говорило за неё. Её тело – как клеймо.
И если кто-то сейчас смотрел – пусть смотрит. Потому что стыд – он для тех, кто ещё думает, что они принадлежат себе.
Она вытерлась медленно, почти лениво, как кошка, от которой ещё не ждут прыжка, – ткань была грубоватой, но мягкой от времени, и каждое касание вызывало не раздражение, а нечто вроде напоминания: ты жива, ты здесь, ты ощущаешь.
Сначала плечи. Потом грудь. Живот – в последнюю очередь, будто не хотелось касаться этого центра, этой чаши, в которую вот-вот что-то прольётся. Она не торопилась. Не было нужды. Мать не звала. Часы в их доме не тикали. Время отмерялось иначе: взглядом, жестом, свёртком у двери.
Она обернулась к зеркалу ещё раз, встала прямо, расправила спину. Тело её парило, чуть влажное, пахнущее мылом и кожей, – и в нём было что-то почти царственное, как у жриц, о которых она читала в старом фолианте, спрятанном за хлебной полкой: женщины, которые не стыдились своих форм, потому что формы были их сутью, оружием и языком.
Надевать старую рубаху не хотелось. Она лежала в углу, скомканная, как сброшенная шкура. Белёсая, с потёртостями, с заплаткой на плече – деталь, которая вдруг показалась ей оскорбительной. Носить её теперь – всё равно, что вытереть чистое тело грязной тряпкой.
Она не была ни одета, ни раздета. Она была готова – и только.
Красная подошла к свёртку, всё ещё не надев ничего. Села на корточки, как в детстве, когда играла с мышами под полом. Потянулась к нему – ткань грубая, шнур затянут крепко. Она не развязала. Просто положила руку сверху, ладонью, легко, будто хотела спросить: ты ждёшь меня? Или ты знаешь, что внутри?
Ответа не было. Но тёплый пульс в кончиках пальцев сказал: да.
В доме было тихо. Мать ушла на двор – или в лес – или за грань. Так бывало: она исчезала накануне. Не прощалась. Не оборачивалась. Уходила, чтобы не быть свидетелем момента, когда дочь становится Красной.
И девушка – пока ещё просто тело, просто кожа, просто глаза и дыхание – осталась одна. Стояла босиком на дощатом полу, ощущала, как снаружи колышется воздух, как в углу вздохнул огонь, как под потолком шевельнулась паутина. Всё в доме знало. Всё в доме дышало вместе с ней.
И всё-таки она не надела ничего. Потому что не было больше ничего её. Рубаха – из прошлого. Плащ – ещё не с ней. Оставалось только тело. И этого, как ни странно, казалось, было достаточно.
Она услышала шаги ещё до того, как они прозвучали.
В этом доме звук всегда шёл впереди – как предчувствие, как запах дождя до первых капель. Половица у порога скрипнула. Потом вторая, под тяжестью тела, что знало, где наступать, чтобы не нарушить слишком много тишины.
Мать вошла – не спеша, не по-хозяйски, но точно. Как будто всё здесь уже было решено без неё, и она пришла лишь удостовериться: да, всё идёт, как должно.
Она ничего не сказала. Только остановилась у двери, вытерла руки о фартук, как делала всегда – даже когда их нечем было испачкать, – и посмотрела.
Прямо. На неё.
На обнажённую, промытую, свежую, незащищённую – и потому сильную.
На ту, что стояла посреди комнаты, не прикрываясь, не опуская глаз, не оправдываясь.
Они смотрели друг на друга долго. Без слов. Без имен.
И впервые в этом взгляде не было ни приказания, ни заботы, ни страха. Было что-то другое. Усталость – да. Принятие – возможно. Но главное – знание. Мать узнала в ней Красную. Не ту, что играла с нитками. Не ту, что спрашивала: «А что за бабушка?» Не ту, что дрожала во сне.
Эту – с прямой спиной, с влажными волосами, прилипшими к шее. Эту, чьи соски слегка напряглись от прохлады, но не от стыда. Эту, у которой внизу живота уже собиралось тепло. Эту, в чьих глазах не было просьбы, только готовность.
Мать подошла ближе. Медленно. Почти сквозь воздух.
– Сядь, – сказала она тихо.
Красная села – снова на корточки, как раньше. Волосы скользнули вперёд, прикрыли грудь, но она их не тронула. Ей было всё равно.
Мать сняла с пояса гребень. Старый. С деревянными зубьями. Потрескавшийся, с полустёртым рисунком. Молча опустилась за спину дочери. Начала расчёсывать.
Каждое движение – неторопливое, почти ласковое, но сдержанное. Каждый звук – как вздох. Гребень скользил по влажным прядям, вытягивал из них остатки сна, остатки детства, остатки того, что не пригодится в пути.
– Ты знаешь, почему ты – Красная? – спросила мать, не поднимая глаз.
Она кивнула – неуверенно. Но кивнула. И всё равно – спросила:
– Потому что плащ?
Мать усмехнулась. Легко. Как от старой шутки, в которой никто не смеётся, но все узнают.
– Потому что ты идёшь туда, куда шли все. Потому что ты кровь. Потому что ты – не первая. Но можешь быть последней.
Пауза. Зубец гребня зацепился за узел. Мать остановилась, мягко распутала пальцами.
– Не рвись, – сказала она. – Ни туда, ни обратно.
Она положила гребень на стол, подошла к двери, взяла свёрток, положила его у ног Красной. Поверх – алый плащ. Всё это – как подношение. Как заклад. Как начало сцены, из которой никто не выходит прежним.
– Одевайся, когда будешь готова, – сказала мать.
И ушла.
Пока она сидела на корточках в тишине. Свёрток у её ног, на нём – алый плащ. Дом вокруг ощутимо сжался до дыхания – глубокого, выжидающего, как будто стены знали: сейчас она сделает что-то такое, от чего потом нельзя будет отступить назад.
Она поднялась – не резко, а с той неспешностью, в которой живёт решимость. Тело её остыло, кожа покрылась мелкой дрожью, не от страха – скорее от того, что между ней и миром больше не было ткани. Только воздух. Только взгляд. Только ожидание.
Она потянулась к плащу. Он был тяжёлым – не только по весу, по значению. Ткань шершаво зашуршала между пальцами, будто знала, как ложиться на кожу. Алый – не огненный, не праздничный, а глубокий, как кровь, оставшаяся на камне после ритуала. Пахло от него старым дымом, ветром, пылью – и чем-то ещё. Может быть, кожей. Может быть, телом той, что носила его до неё.
Она накинула плащ на плечи. Он не застёгивался – не было пуговиц, не было завязок. Он просто держался, обнимая её тяжестью. Касался груди, скользил по животу, падал по бокам, не скрывая ног. Под ним она оставалась голой, и именно это казалось правильным.
Никакой другой одежды ей не положено. Только путь. Только плащ. Только тело.
Она подошла к двери. Остановилась. Посмотрела вниз: ступни босые, кожа чуть синеватая от холода, пальцы сжались от прикосновения к холодным доскам. И тут – звук. Не громкий. Не резкий. Почти домашний. Шаг. Один. Потом ещё. Мать.
Она вернулась – не по делу, не с вопросом. Просто вошла. В руках – ничего. Только потом Красная заметила: под мышкой, как бы невзначай, она держит… что-то. У самой груди. Как дитя. Два сапожка. Красные. Мягкие, как кожа за ухом. Подошва – чуть стёртая. Носы – округлые. Линия шва – как улыбка.
Мать ничего не сказала. Только подошла. Медленно опустилась на корточки – так же, как сидела когда-то сама Красная, когда смотрела, как в окне появляется дождь.
Поставила сапожки перед дочерью.
И посмотрела.
Просто – посмотрела.
Как будто спрашивала: нужно ли тебе это? Ты хочешь идти по лесу – босиком, как жертва, или в сапогах, как идущая по собственному следу?
Красная молча стояла. Голая под плащом. Плащ тянул плечи вниз.
Сапожки ждали.
Она не знала, что важнее: боль ступней – или право выбрать. Но она понимала – сейчас именно она решает.
И это был первый её шаг.
За порогом
Она стояла перед дверью, и в доме стало необычайно тихо, как если бы само дерево затаило дыхание. Ткань плаща обнимала её чуть влажную кожу, впитывая тепло, запоминая изгибы. Красная пошевельнулась – не из неуверенности, а чтобы ощутить, что в ней всё живо, открыто, готово.
Сапожки стояли у порога, как два маленьких стража. Она наклонилась, надела их неспешно – сначала правый, потом левый, поправляя по складке. Они сели плотно, точно по ноге, будто ждали именно её. Тёплые. Мягкие. Красные – в точности как плащ, как имя, как след на снегу, которого здесь не было, но который всё равно ощущался.
Плащ тяжело шелестел по ногам, сапожки тихо скрипели по доскам.
Спохватившись, подняла и сунула под мышку свёрток для бабушки.
Дверь под ладонью скрипнула. Она не распахнула её. Просто открыла ровно настолько, чтобы пройти.
Свет снаружи был рассеянный, утренний, ещё без обещаний. Воздух – свежий, с привкусом земли и золы, влажный, как дыхание леса до слов.
За порогом не начался лес. Он уже был. Он всегда был здесь. Просто раньше не звал.
Воздух снаружи плотнее. Он обволакивал кожу, проникал под плащ, цеплялся за волосы. В нём не было угрозы, но и уюта не осталось. Только внимание.
Она остановилась на миг, прислушалась. Не было звуков – только присутствие.
Как если бы кто-то смотрел. Не из укрытия, а из самого пространства. Не взгляд – знание.
Она не отвернулась. Не прикрылась. Только выпрямилась, выдохнула и пошла.
В этот момент плащ вздрогнул на ветру, поднялся чуть, словно хотел взлететь, но передумал. Он остался с ней. Как клятва. Как шкура. Как тень, которую больше не оторвёшь. Красная ступала осторожно, но не медленно. Она не знала, куда поведёт её лес.
Но знала: путь начался.
В конце тропинки, всего в нескольких шагах от крыльца, виднелась калитка. Она казалась дальше, чем раньше – будто за ночь всё вытянулось, исказилось, набрало вес. Красная помнила её другой: ниже, добрее, деревянной, но почти живой – как будто у неё были руки, которые распахивались, когда девочка прибегала босиком со двора. Тогда она играла здесь с верёвкой, прыгала в резинку, гоняла крапиву палкой и мечтала, что за калиткой начинается настоящая страна – с чудовищами, с сокровищами, с принцем, у которого руки пахнут хлебом.
Теперь калитка не казалась ей ни входом, ни выходом. Она была границей. Не как забор. Как веко. Как шов между сном и явью. Доски её выцвели, петли покрылись ржавчиной, щеколда потемнела. Но всё держалось крепко. Будто кто-то каждую ночь приходил и проверял: всё ли готово. Не расползлось ли.
Она подошла ближе. Провела пальцами по дереву – шершавому, тёплому, живому. Рука легла на щеколду сама, без команды. Пальцы знали. Мышцы помнили. Щелчок – глухой, как выстрел в подушку.
Она не открыла сразу. Сначала вдохнула. В этом вдохе было всё: тепло из кухни, шерсть на подушке, взгляд матери, который не отпускал, но и не держал.
И только потом – шаг.
Калитка поддалась с мягким скрипом, как будто не открывалась, а уступала. И мир за ней – не ворвался, не сменился, а просто вошёл. Без слов. Без знаков. Только тишиной, в которой уже стоял кто-то.
Лес начал дышать.
Не сразу, не порывом ветра, не звуком – а едва уловимым сдвигом пространства, в котором исчезли привычные запахи: хлеб, зола, кожа матери. Вместо них – влага. Тяжесть. Запах мокрой древесины, чуть сладкий, глухой, как дыхание под корой.
Лес не начинался резко. Не было стены деревьев, не было аллеи. Он просто начался, как ночь начинается в полдень, если ты долго не моргаешь. Трава под ногами сменилась корнями, тонкими, извивающимися, будто земля обнажила свои жилы. Почки на кустах казались глазами. Мох – телом, которое спит. Всё здесь дышало, даже камни, даже тишина.
Красная шла неторопливо. Не от страха. От уважения. Каждый шаг – не просто движение, а заявление: я здесь. Плащ волочился за ней, цеплялся за ветви. Сапожки тонко поскрипывали на влажной земле. Лес слышал её – и не отвечал. Пока.
Когда-то она заходила сюда – с сестрами, которых потом не стало. Тогда, летом, лес был другим: зелёным, небрежным, с шишками, с птичьими голосами и ягодами в ладонях. Сейчас он был тише. Листва глушила звук, ветки не шелестели – только покачивались, будто всё внутри говорило: не мешайся, девочка. Сначала пойми, где ты.
Свет не гас. Но не касался. Он был, как пелена, как остаток сновидения, неяркий, серовато-золотой, сочащийся сверху сквозь ветви. Под ним было прохладно. Пространство искажал запах сырой коры, дымки, которой не видишь, но чувствуешь, как в парной. Иногда – дуновение. Лёгкое, но с направлением. С намёком.
Лес не был добрым. Но и злым – тоже. Он был старым. Слишком старым, чтобы объяснять, кто в нём главный. Он знал – и этого хватало.
Красная шла, чувствуя, как дрожь в животе не уходит, а меняется. Была тревогой – стала чем-то вроде желания. Не телесного. Желания понять, узнать, дойти. Она больше не думала о доме. Не думала даже о бабушке. Только о том, что лес ждёт. Что он – смотрит.
И где-то впереди, как затяжка перед словами, появится Он.
Но пока – только Лес. И этот путь через него – не коридор, не тропа, а приём. Она – как гостья, которая ещё не уверена, впустили ли её на самом деле.
Наверное, она шла даже слишком медленно, как если бы не просто ступала по земле, а училась заново ходить – по новой поверхности, по почве, которая дышит. Под сапожками чувствовалась влага, мягкость, рыхлая кожа мира, готовая провалиться, если наступишь не туда. Но она не боялась. Просто прислушивалась – к звукам, к воздуху, к себе.
Лес принимал её неохотно, но честно. Он не выталкивал, не звал, не пугал. Он просто был, с каждым шагом становясь всё более собой – мрачным, глубоким, хранящим. Деревья стояли не как стражники, а как свидетели: высокие, с потрескавшейся корой, с ветвями, обвитым лишайником, с корнями, что вздымались, как жилы на теле старика. Ветки местами сплетались так густо, что свет терялся, превращаясь в глухое сияние, словно в воде – без теней, но и без солнечности.
Птиц всё ещё не было. Только один раз – на краю поляны – где-то вдалеке хрустнула ветка, но так, что это казалось не звуком, а вопросом. Она не ответила. Просто продолжила путь, чуть ровнее держа спину.
Ощущение одиночества приходило не сразу. Сначала был лес, потом путь, потом дыхание, потом – тело. А потом уже пришло понимание, что с этого момента всё, что произойдёт, – будет происходить только с ней, и никто не увидит этого, кроме неё. И это не пугало, но тяжело легло под рёбра. Одиночество было не как пустота, а как костюм, который нужно было надеть, чтобы пройти дальше.
В какой-то момент она вспомнила о бабушке. Не резко, не как имя. Просто – как присутствие. Как ту, кому она несла свёрток.
Раньше она думала о ней мало. Не задавала вопросов – мать не поощряла. Сёстры тоже не говорили ничего определённого. Только однажды, когда она притворилась спящей, услышала, как старшая шептала другой, почти беззвучно, губами к уху:
– Если дойдёшь до бабушки – ты всё поймёшь.
Тогда ей показалось, что речь идёт о старой женщине, живущей в домике за лесом, с пирогами и одеялом на коленях. Потом – что о ведьме. Позже – что о смерти. Но ни один из этих образов не прижился. Потому что бабушка была не кем-то, а чем-то. Словом, которое никто не называл с уверенностью. Местом, которое не отмечено на карте. Станцией, куда отправляли – но откуда не возвращались.
Мать сказала о бабушке сдержанно. Почти как о погоде.
– Ты отнесёшь это бабушке.
– Где она живёт?
– Ты знаешь.
Но она не знала. Ни адреса, ни дороги, ни дома. Только голос. Тот, что снился в детстве – хриплый, с глубоким тембром, как будто из-под воды. Голос, который говорил:
– Иди ко мне. Я жду тебя. Ты уже наполовину моя.
Она пыталась забыть эти сны. Мать запрещала говорить о них. Но однажды, когда ей было семь, в дом пришла незнакомая женщина. Гостья. Седая, с пальцами, испачканными в земле. Мать долго с ней говорила на кухне, шёпотом. Потом сказала:
– Ещё не время. Она – последняя.
И теперь, вспоминая это, Красная шла всё глубже, и с каждым шагом бабушка становилась реальнее, хотя её образ не прояснялся. Она была как запах: не видишь, но чувствуешь, и чем ближе – тем сильнее.
Тропа снова исчезла – не потому что её не было, а потому что перестала нуждаться в определённости. Под ногами осталась только земля – мягкая, местами влажная, поросшая мхом, и чем дальше она шла, тем реже вспоминала, зачем ступает. Движение стало внутренним. Похожим на дыхание.
Деревья росли теперь более вольготно. Прореженный участок, как тихая поляна, без цветов, без пней, просто – пустое пространство, в которое свет проникал чуть щедрее, и из-за этого воздух казался чужим, будто кто-то только что ушёл и оставил за собой шлейф присутствия. Ни птиц, ни зверя, ни звука. Только тишина, ставшая чуть менее равнодушной.
И тогда она увидела его.
Не предмет, не существо – знак.
На стволе одного из деревьев – старая лента. Ткань, выцветшая до серого, с красноватым отливом в складках. Её обвили вокруг коры небрежно, но крепко. Узел тугой, витки тусклые. Кто-то это сделал давно – и, возможно, не для неё. Но всё в этом месте говорило, что именно она должна это увидеть.
Красная остановилась. Подошла ближе. Пальцы прикоснулись к ткани – шершавой, пропитанной лесным запахом, и чем дольше она держала её в руке, тем отчётливее понимала: это не просто обрывок. Это след.
Может быть, одной из сестёр. А может даже её самой, в другом времени.
На миг показалось, что ткань тёплая. Не от солнца – здесь его не было. От прикосновения, которое ещё не остыло.
Она не развязала ленту. Не забрала с собой. Только приложила лоб к коре рядом с ней – на секунду, как в детстве к груди матери. И прошептала:
– Я иду.
Лес не ответил. Но что-то в его молчании изменилось. Тишина стала ближе. Как кожа.
Она выпрямилась и пошла дальше. С чуть большей уверенностью. С чуть более ровным дыханием. С ощущением, что бабушка слышит.
Лес принял её поступь мягко – будто подстелил под подошвы мох, которого раньше не было. Всё вокруг словно стало немного внимательнее: не светлее, не громче, но глубже. Ветви по-прежнему качались лениво, но не в безпорядке, а в ритме. Как будто теперь они слушали не ветер, а её.