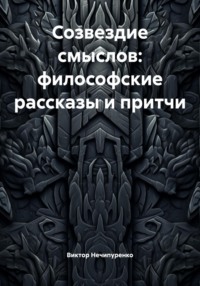Полная версия
Зеркала в бесконечность
Для него, для Santo Señor, христианство – эта громоздкая, пышная «религия Эдома» – было лишь ступенью. Важной, необходимой, но – предпоследней. Как грязный предбанник перед входом в сияющие чертоги истинной религии – религии Даат (דעת), Знания. Того самого Знания, что было утеряно при грехопадении, Знания, что по ту сторону Добра и Зла.
Возвестить эту религию, вернуть это Знание – вот задача истинного Мессии. И только ему, Мессии, дана власть и сила не просто учить, но разрушать. Совершать священную деконструкцию прежних вер – иудаизма, христианства, ислама. Попирать их законы, взламывать их священные тексты, разрывать клипот – проклятые скорлупы, в которых томятся искры Божественного Света. «Я пришел для того, чтобы избавить мир от всех законов, существовавших до сих пор!» – гремел его голос. Не реформировать, не дополнить – избавить. Уничтожить.
Казалось бы, замысел грандиозен. Переписать всю партитуру бытия. Сыграть финальную Оперу Творения, вернее – его Раз-Творения. Но что мы видим в истории? Вспышка. Скандал. Короткий, безумный взлет – и падение. Осколки учения, разбросанные по Европе. Не Опера – лишь интермеццо. Короткая, бурная, провокационная вставка между актами великой драмы.
И самое парадоксальное – это идеально вписывается в его же собственное учение! Он говорил о непрерывных приходах Мессии. Душа Мессии возвращается снова и снова, каждый раз – с новой задачей, с новой маской, с новым интермеццо. Потому что полную Оперу играет не он, не земной посланник. Ее играет Малка Каддиша (מלכא קדישא) – Святой Царь, сам Бог в Его непостижимой глубине. Он – вечный Композитор и Дирижер, Его партитура разворачивается от вечности до вечности. А здесь, на этой пыльной сцене, в этом театре теней, называемом Землей, – увы, лишь интермеццо. Яркие, необходимые, но – фрагменты.
Исключений нет. Даже для Того, из Назарета. Франк, этот мастер провокации, не щадил и Его. Вспомним притчу, рассказанную им в Иванье:
«…Об одном христианине, который отправился в страну, где почитают лошадь, считая ее богом. Он спросил их: почему? Ему ответили: “Ведь мы слышали, что во многих странах поклоняются мертвому еврею…”»
Жестоко? Безусловно. Но в этой притче – вся суть его вызова: «Из этого вам должно быть ясно, что не нужно следовать за человеком, которому нечем помочь, который и сам мертв. Все это путь к смерти. Но мое намерение… привести вас к жизни».
К какой Жизни? Не к той ли, что по ту сторону Закона, по ту сторону смерти, в сияющей тьме Даат? Жизни, обретаемой через священное преступление, через попрание всех норм?
И вот здесь – ловушка. Хитрость Разума, как сказал бы известный немецкий философ? Или вечная трагедия человеческого восприятия? Мы слышим музыку интермеццо – громкую, страстную, шокирующую. И принимаем ее за всю Оперу. Мы видим блеск очередного Мессии, его короткий, яростный танец на краю бездны. И думаем, что это сам Малка Каддиша спустился к нам. А самые наивные – что это сам Ветхий Денми, Предвечный, явил свой Лик.
Мы жаждем финала, жаждем разрешения всех диссонансов. А нам предлагают лишь еще одно интермеццо. Еще один фрагмент бесконечной, непостижимой Божественной Оперы.
Яков Франк, «простак», Барон Оффенбах. Сыграл ли он свое интермеццо до конца? Или его музыка оборвалась на полуноте? Мы не знаем. Мы слышим лишь эхо. Эхо бунта, эхо обещания Жизни через Смерть Закона. Эхо очередного мессианского интермеццо в бесконечной Опере Святого Царя. А сама Опера? Она продолжает звучать. Где-то там. За пределами нашего слуха. От вечности. До вечности.
Губки Прототетиса: первые психонавты
Представим себе рассвет жизни. Не просто рассвет дня, а Рассвет с большой буквы – почти миллиард лет назад, когда Земля была юной, а океаны – колыбелью еще не рожденных форм. Докембрий. Время титанических геологических процессов и едва заметного шевеления первых многоклеточных. И среди них – скромные, почти невидимые герои драмы бытия: морские губки.
Они появились у самого корня Древа Жизни, почти неотличимые от той ветви, что спустя сотни миллионов лет породит нас, homo sapiens sapiens, существ с раздутым самомнением и сложным мозгом. Губки – примитивные фильтраторы, живые мешочки с порами, без нервов, без мозга, без глаз. Казалось бы, что может быть проще?
Но именно здесь, в этой колыбели простоты, кроется парадокс, способный взорвать мозг. Эти скромные создания, еще не знавшие нервных клеток, уже синтезировали… психоделики. Да-да, вы не ослышались. В их студенистых телах вырабатывался 5-бром-ДМТ – триптамин, близкий родственник знаменитого ДМТ, «молекулы духа».
Гамильтон Моррис, неутомимый исследователь психофармакологических дебрей, был очарован этим фактом. Еще Александр Шульгин, крестный отец психоделиков, упоминал морские триптамины, но их действие оставалось загадкой. Гамильтон предположил, что атом брома (Br) делает эту молекулу более жирорастворимой (липофильной), позволяя ей легче проникать в мозг и действовать эффективнее, чем ее знаменитые собратья. Таинственное письмо от анонимного испытателя подтверждало догадку: 5-бром-ДМТ вызывал сильное, но приятное оцепенение, насыщенные цветовые видения, глубокое расслабление – и все это при сохранении ясности сознания и контроля.
Но вернемся в докембрий. Мозга еще нет. Рецепторов, способных оценить психоделический дар губок, не существует. А мириады этих странных существ уже наполняют воды первобытного океана Прототетис этим веществом. Зачем? Каков эволюционный смысл?
А что если… смысл не в эволюции? Что если губки были не просто ранним экспериментом природы, а чем-то иным?
Представьте океан Прототетис не как водную массу, а как… сознание. Гигантское, разлитое, еще не сфокусированное в индивидуальных умах. Океаническое Сознание. И губки – это не отдельные организмы, а… нейроны этого сознания? Его биоматериальная инфраструктура? Миллиарды живых фильтров, одновременно продуцирующих и воспринимающих психоделическую субстанцию? Не для себя – для Океана.
5-бром-ДМТ – это не просто химическое соединение. Это медиатор, носитель информации, язык, на котором Океаническое Сознание говорило само с собой. Губки – его синапсы, его рецепторы, его железы внутренней секреции. Они – первые психонавты, не имея индивидуального сознания, были частью гигантского психоделического разума Океана. Они плавали в вечном трипе, не осознавая его, но являясь им.
Лазурные воды Прототетиса… Не просто вода, а насыщенный раствор сознания, психоделический бульон, в котором варилась будущая жизнь.
А что же человеческий мозг? Сложный, лабиринтообразный, способный на невероятные взлеты и падения. Не есть ли он – микрообраз того древнего Океана? Не хранит ли он память о своем происхождении из той психоделической колыбели?
И вот самая дерзкая мысль: не была ли в саму субстанцию нашего мозга, в его изначальный рецепт, замешана та самая психоделическая тинктура? Не являются ли наши рецепторы к ДМТ и его аналогам – не случайным побочным продуктом эволюции, а… наследием? Памятью о том времени, когда мы были частью Океана, когда наше сознание было разлито в губках Прототетиса?
Возможно, психоделический опыт – это не измененное состояние сознания, а… возвращение? Краткий миг подключения к той древней, океанической нейросети? Вспышка памяти о том, кем мы были до того, как стали «собой»?
Морские губки. Скромные обитатели дна. Безмолвные свидетели рассвета жизни. И – возможно – первые психонавты, хранители ключа к тайнам Океанического Сознания, которое до сих пор тихонько шепчет в глубинах нашего собственного мозга, ожидая, когда мы снова научимся его слышать. Не через слова, а через вибрации древних молекул, рожденных в лазурных водах Прототетиса.
Кикеон падре Игнатия
Элевсин. Девять дней строгого поста. Молчание. Очищение. Напряженное ожидание перед входом в Телестерион, в Святая Святых. И там, на пике ритуала, глоток кикеона – священного напитка, страшного причастия, растворяющего границы разума, отворяющего врата к Несказанному. Древняя мистерия, ключ к которой утерян, оставив лишь легенды и споры ученых о его составе – был ли то ячменный отвар с мятой, или в нем таился спорыньевый дурман, эргин, брат ЛСД?
Мало кто сегодня проходит через подобное. Девять дней поста в контексте преображающего жизнь религиозного таинства, увенчанные приемом напитка, изменяющего сознание… Кажется, такие мистерии остались в седой древности.
Или нет?
Позвольте поведать историю, случившуюся не в Древней Греции, а всего четверть века назад, в стенах иезуитского затвора. Историю не о кикеоне, но о чем-то странно на него похожем.
Молодой иезуит, вместе с собратьями по ордену, подошел к вершине духовного обучения – второму, заключительному 30-дневному уединению по методу Игнатия Лойолы. «Духовные упражнения» – так называется этот путеводитель по лабиринтам души. Первая его часть – это погружение во мрак. Упражняющийся должен непрестанно созерцать свое ничтожество перед Богом, свою греховность, свою обреченность вечному осуждению. Полное молчание, прерываемое лишь мессой и краткими беседами с наставником.
Он погрузился в эти упражнения с рвением неофита. И вскоре пал жертвой. Не Бога Любви, но Молоха христианства – той его темной, карающей ипостаси, что требует самоуничижения до полного распада. Тени теологии отчаяния сгустились над ним. К третьему дню он перестал есть. Перестал посещать службы. Перестал говорить с наставником. Он брел в одиночестве по монастырским тропам, бичуя себя не плетью, но сомнениями и безнадежностью, которые жалили куда больнее. Мир стал серым, Бог – далеким и грозным Судьей, а собственная душа – гнойной язвой.
Прошло еще три дня в этом аду самоотрицания. Четыре дня без пищи. Тело ослабло, но дух достиг странного мрачного равновесия – метастабильного состояния полного отчаяния. Безрассудство пришло на смену агонии: «Если я никогда не смогу обрести любви к Богу, я просто буду механически двигаться в этом мертвом танце преданности до конца уединения. Пусть так». Пустота.
Был рассвет. Впервые за четыре дня он заставил себя поесть, хотя отвращение к пище было почти физическим. Один ломтик поджаренного хлеба. Чашка черного горького кофе без сахара. Он сел за стол, тупо уставился в чистые страницы своего дневника, не зная, что писать в этой пустыне души.
И в этот момент… его «транспортировали».
Слово кажется нелепым, но другого нет. Внезапно, ошеломительно, неописуемо. Словно его выдернули из ткани пространства и времени. На миг, показавшийся вечностью и одновременно долей секунды, он ощутил себя в непосредственном Присутствии. Не Бога из молитв и икон – Тот, Кого он «встретил», ничем не походил на образы воображения. Это было Иное. Ослепительное Ничто. Живая Пустота. Абсолютная Реальность, неотвратимо убедительная, не оставляющая ни тени сомнения. Истина, явленная не в словах, но в самом бытии.
Это был, возможно, главный момент его жизни. Все, что было после – включая уход из священства годы спустя – так или иначе, корнями уходит в эти несколько секунд Вечности. Все представления о себе, о Боге, о мире – рухнули и были пересобраны заново.
Что это было? Эффект обстановки и упражнений? Несомненно. Эффект поста? Вероятно, без четырех дней голода этого бы не случилось. Но и сам пост был спонтанным, рожденным из глубин отчаяния, усиленного аскетичной обстановкой и ментальными самоистязаниями.
А может… может, это был даже своего рода «энтеогенный» эффект? От черного кофе и куска хлеба? Звучит абсурдно. Но вспомним де Квинси: люди пьянели от зеленого чая, а выздоравливающий пациент – от говяжьего стейка. Истощенный организм, измененное состояние сознания – и самый простой стимул может стать спусковым крючком для лавины. Он купил несколько секунд Вечности четырьмя днями поста и чашкой кофе. А если бы цена была выше – девять дней, как в Элевсине, и не кофе, а кикеон с его таинственным эргином? Не купил бы он час? Или вечность?
Мысль об этом вызывает дрожь. Он почти благодарен Провидению (или Слепой Случайности?), что под рукой оказался лишь кофе. Если бы это был, скажем, чай из пейота… Что стало бы с его рассудком, уже стоявшим на краю пропасти? «Страх – это не забава», как мудро заметил Хьюстон Смит. Пережитое было достаточно ошеломляющим и без кактусов.
Но две вещи убеждают его, что настоящий энтеоген мог бы усилить и, главное, сделать более вероятным подобный опыт (ибо такие прорывы редки даже среди самых рьяных иезуитов). Во-первых, его собственный поздний опыт – теофании, пережитые под влиянием энтеогенов, пусть и в менее напряженной обстановке, но все же показавшие их силу вызывать глубокие религиозные чувства. Если уж в обычных условиях растение может так встряхнуть душу, то что оно сделало бы в том тигле духовных упражнений?
А во-вторых, конечно, знаменитый «Эксперимент Страстной Пятницы» Вальтера Панке. Псилоцибин против плацебо перед трехчасовой службой. Результат был ошеломляющ: группа, принявшая «плоть бога» ацтеков, пережила несравненно более глубокий и интенсивный религиозный опыт, который они оценивали как один из важнейших в жизни даже 25 лет спустя. Научное доказательство? Почти. Демонстрация того, как энтеоген может катализировать религиозное переживание в соответствующей обстановке.
И остается лишь гадать: насколько сильнее был бы этот эффект, если бы участники эксперимента Панке перед службой еще и постились несколько дней? Если бы обстановка была не просто часовней, а настоящим Телестерионом души, доведенной до предела отчаяния и ожидания?
Возможно, древние знали больше нас. Возможно, ключ к мистериям – это не только тайный ингредиент кикеона, но и алхимия поста, молитвы, отчаяния и готовности встретиться с Бездной. И иногда, очень редко, эта алхимия срабатывает даже от чашки горького кофе и куска черствого хлеба, открывая врата в Вечность на несколько невыносимо ярких секунд.
Пейотовая молитва на могиле кактусов: реквием и теофания у Александра Шульгина
Звонок телефона разорвал тишину. Голос на том конце – знакомый, теплый, с той особой интонацией мудрости и легкой иронии, что была присуща только ему. Саша Шульгин. Алхимик сознания, картограф внутренних пространств, "папа" сотен психоактивных молекул.
– Сынок, – начал он без предисловий, но с какой-то непривычной торжественностью. – Ты, наверное, слышал, что раз в году у нас на ферме проходит особая церемония? Реквием по моим пейотовым кактусам. Тем самым, что когда-то росли здесь, на грядке, а потом были безжалостно уничтожены людьми из Агентства… Мы собираемся перед закатом. Близкие друзья, несколько курандерос из Мексики приезжают специально. Я приглашаю тебя. Это шанс… получить благословение Духа Мескалито. Он особенно милостив к тем, кто чтит память Его детей. Но подготовься. Духовно, телесно. Есть еще пара дней.
В его голосе звучала такая глубина и значимость, что отказаться было немыслимо. Но едва трубка легла на рычаг, как душу охватил священный трепет. Предчувствие чего-то огромного, неведомого, страшного и одновременно – неодолимо манящего. Зов Бездны, но не той, что пугает, а той, что обещает Откровение.
В назначенный день, когда солнце уже клонилось к закату, окрашивая калифорнийское небо в оттенки шафрана и пурпура, он приехал на ферму Шульгиных. Собралось человек тридцать – тихие, сосредоточенные люди с особым светом в глазах. Атмосфера была пронизана ожиданием. Мексиканские курандерос, с лицами, словно высеченными из древнего камня, начали ритуал. Они раздавали всем пейотль – священные «кнопки» кактуса Лофофора Уильямса. Каждому – своя доза, от восьми до двенадцати, в зависимости от веса и, возможно, духовной готовности.
Саша и его жена Энн, хранительница очага и мудрости, разливали по кружкам густой отвар шалфея – salvia divinorum? – с какими-то добавками из Сашиной лаборатории. Вместе с отваром давали кедровые палочки – их смолистый вкус должен был смягчить невыносимую горечь пейота.
Старший курандеро поднял руку, призывая к тишине.
– Помните эту священную встречу, – его голос был низким и ровным, как гул земли. – Помните, что мы поклоняемся Ваконде, Великому Духу, согласно Его наставлению.
Он начал читать молитву индейцев Виннебаго, и все собравшиеся тихо повторяли за ним, слова ложились на сердце, как семена:
«Этим вечером я съел восьмой пейот…
Богу Живому вышнему, Отцу нашему, я молюсь.
Имей милость ко мне, дай мне знание, чтобы
Я не мог ни изрекать, ни делать зло.
Тебе, о Боже, я пытаюсь молиться.
Ты, о Сын Божий, также помоги мне.
Эту религию позволь мне познать.
Помоги мне, о лекарство, дедушка, помоги мне…»
Под тихие, тягучие напевы курандерос началось причастие. Горькие, плотные кнопки пейота, запиваемые странным, терпким отваром шалфея, кедровая палочка во рту… Вкус земли, горечи, тайны.
Затем все двинулись процессией. К могиле. К месту, где когда-то росли священные кактусы, а теперь осталась лишь холм земли, отмеченный камнями. Впереди шли двое курандерос, неся небольшой деревянный ковчег. В нем, в родной земле, покоились два живых пейота – один побольше, другой поменьше. Символы возрождения. За ними – Саша и Энн, как первосвященники этого странного культа. Остальные – следом.
У могилы образовали круг, взявшись за руки. В центре – курандерос, Шульгины и ковчег с кактусами. Старший снова заговорил:
– Наше собрание священное. Мы здесь для поклонения Божеству. Ваконда сотворил всё. Он сотворил Пейот для нашего блага. Мы не поклоняемся кактусу как идолу. Мы видим в нем символ Творца. Эта церемония дана нам Им Самим. Пусть наши мысли будут чисты. Пусть наши умы будут на духовных вещах…
Легкий стук барабана – как биение сердца земли. И полилась Открывающая Песнь. Древние слоги, лишенные привычного смысла, но полные силы. Сначала пели курандерос, их голоса сплетались в гипнотический узор. Потом подхватили все. Песня текла, обволакивала, уносила…
Время потеряло свои очертания. Он почувствовал первые волны. Легкий приход. Цвета вокруг стали ярче, звуки – глубже. Мир начал дышать, пульсировать.
Сумерки сгустились. Ночь окутала ферму своим бархатным покрывалом. Зажглись звезды – далекие, холодные, но теперь казавшиеся невероятно близкими.
Курандерос запели Песнь Полночи. Глубокую, таинственную. И круг снова подхватил ее.
Ná-hi-ya-na-h´-yo-we-ne…
И в этот момент Дух Мескалито ворвался в него. Не постепенно – взрывом. Вспышкой триллионов солнц, мириадами невиданных цветов. Сознание перевернулось. Он стал Пейотом. Восьмидольчатым цветком пустыни. Дольки росли из центра, который мгновенно стал Глазом. Единым, всевидящим. А потом и дольки превратились в глаза. Восемь глаз. Девять! Бесчисленное множество! Они вращались с немыслимой скоростью, и в каждом отражались Вселенные – вспыхивающие, разворачивающиеся, сворачивающиеся, взрывающиеся сверхновыми красок и снова гаснущие во тьме…
Лучи этих глаз-дольек скрещивались в центре – в том самом, изначальном Глазе Пейота. И там… Оооо! Сам Ваконда! Не образ, не фигура – чистый, невыносимый Свет! Триллионы оттенков, не существующих в обычном мире, симфония цветов разной яркости, интенсивности, глубины… Блаженство! Непередаваемое ощущение Единства со Всем. Со всеми Вселенными – актуальными и потенциальными, что дремали и рождались в бесконечной фантазии Великого Духа.
Цвета, запахи, звуки – все смешалось, стало единым потоком, несущимся с бесконечной скоростью сквозь его мозг, который больше не был мозгом, а стал самой Вселенной. Галактики, звездные скопления – это были его глаза, сетчатки его бесчисленных очей, отражающие сами себя в калейдоскопе МультиВселенных…
Мысль стала осязаемой. Ощущение стало мыслью. Он мог ощупывать мысль своими глазами, а она разворачивалась, как цветок, в бесконечную плоскость пространства, сияющую мириадами цветов, познаваемую во всей своей полноте в один миг.
А потом Центр Пейота, Вселенский Глаз, начал проваливаться. Внутрь себя. В еще большую бездну. В абсолютную тьму. В Черную Дыру Ничто. И тут же эта Дыра взорвалась! Новыми сияющими МультиВселенными! Они вывернулись наизнанку, превратились в бесконечную мерцающую пленку его Мысли… которая мгновенно сжалась обратно в точку.
Тишина. Темнота. И тихое биение собственного сердца, вернувшегося из бесконечности на маленькую ферму в Калифорнии, к могиле растерзанных кактусов, под взглядом мудрых глаз Саши Шульгина. Он вернулся. Но он уже никогда не будет прежним. Он коснулся Ваконды. Он был Пейотом. Он заглянул в Глаз Вселенной.
Геометрия Бога и задняя дверь безумия
«…И не придал Богу безумия».
(Книга Иова 1:22, по некоторым переводам)
Что есть мысль? Быть может, это пространство? Поле, на котором разворачивается невидимая геометрия. Платон, как говорят, изрек: «Бог – великий геометр». Но тут же встает вопрос, дерзкий, почти кощунственный: а какая у Него геометрия? И одна ли она? Ведь даже мы, люди, пылинки в Его бесконечном замысле, умудрились создать их несколько: строгую, ясную геометрию Евклида, где параллельные прямые никогда не пересекаются; причудливую геометрию Лобачевского, где они расходятся; сферическую геометрию Римана, где они неизбежно встречаются.
Каждая геометрия – это набор аксиом, изначальных правил игры. На них строится пространство мысли, возникают фигуры понятий. Одно из главных правил нашей, человеческой, рациональной игры: расстояние между точками фигуры не должно меняться при ее вращении или перемещении. Фигура должна оставаться собой. Это условие логики, последовательности, здравого смысла. Мысль должна быть консистентной.
Платон верил, что эти геометрические истины – врожденные. В диалоге «Теэтет» его Сократ, словно искусный повивальщик душ, «извлекает» знания геометрии из мальчика-раба, никогда ей не учившегося. Он не учит – он помогает вспомнить. То, что душа знала до своего падения в мир материи.
Есть разные пути к этому воспоминанию. Сократовская майевтика – один. Ars memoriae, Искусство Памяти Джордано Бруно – другой. Ноланский еретик видел в памяти не просто склад информации, а астральную проекцию Космоса, упорядоченную через буквы, числа, образы. Мыслитель, поэт, художник – это тот, кто обладает силой двигать эти образы, вращать их в пространстве мысли, следуя заветам Аристотеля: «Мышление – это обращение с образами». Сам человек – микрокосм, свернутый образ Вселенной. Поэтому в нем заложена потенция уподобиться Великому Геометру. Это путь Логоса, путь Ума, путь восхождения по лестнице рационального познания.
Но… есть и другой путь. Путь, который пугает и манит. Путь, где правила игры отменяются. Путь безумия.
Представьте Бога не как Геометра, склонившегося над чертежами Вселенной, а как Диониса – опьяненного, экстатичного, окруженного воющими менадами и сатирами. Какая уж тут геометрия! Здесь – чистый хаос, стихия, разрыв всех форм, священное безумие, mania.
Индийский мистик Мехер Баба, странствуя по дорогам Индии, искал не мудрецов, а мастов – «опьяненных Богом» безумцев. Он верил, что они – ближе к просветлению, чем самые здравомыслящие пандиты. «Зачем ты тратишь время на сумасшедших?» – спросил его ученик. Мехер Баба ответил: «Ты не понимаешь. Разумный человек – узник своего здравого смысла. Его темница крепка. Вывести его оттуда – тяжкий труд. А безумец? Он уже вышел! Правда, через заднюю дверь… Не через ту, что ведет к истинной Свободе. Моя задача – лишь подвести его к правильной двери и сказать: “Друг, ты верно почувствовал, что за стенами ума есть нечто большее. Но выход – вот здесь. Не там”».
Задняя дверь безумия… Она ведет не к просветлению, но вовне – за пределы привычной геометрии мысли. Что если существует иное пространство сознания? Пространство, где фигуры и образы конструируются по другим законам? Где расстояние между точками постоянно меняется? Где само пространство пульсирует, сжимается и расширяется? Где нет незыблемых аксиом, а есть лишь вечный танец становления?
Возможно, именно в таком пространстве – пространстве абсолютной свободы, не скованной жесткими правилами Евклида или логики Аристотеля – и возможно абсолютное мышление? Мышление самого Бога?
Не об этом ли говорит пророк Исайя от имени Всевышнего?
«Ибо Мои мысли – не ваши мысли» (Исаия 55:8).
Наши мысли – ограничены нашей геометрией, нашей логикой. Его Мысли – свободны. Они могут быть парадоксальными, противоречивыми с нашей точки зрения, безумными. Но это – безумие иного порядка. Не распад разума, а его трансценденция.