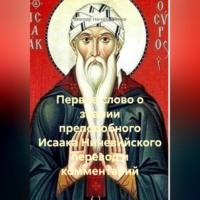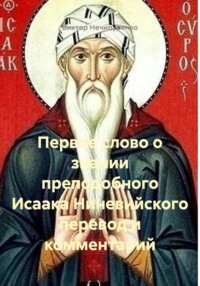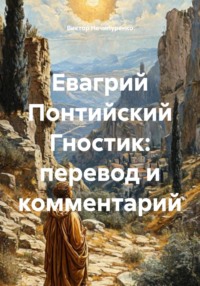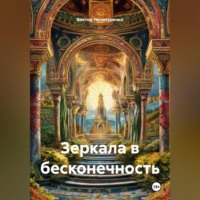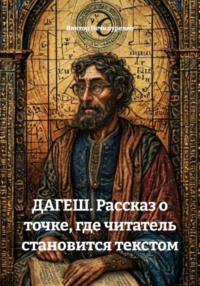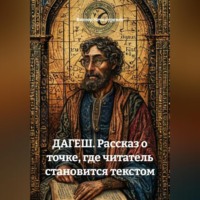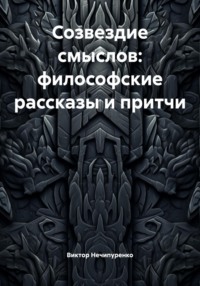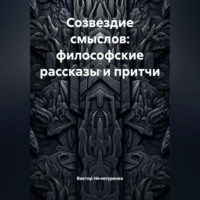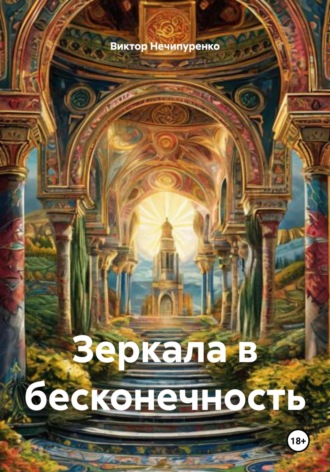
Полная версия
Зеркала в бесконечность

Виктор Нечипуренко
Зеркала в бесконечность
Предисловие
Дорогой читатель,
Книга, которую вы держите в руках, – не роман с линейным сюжетом, не философский трактат с последовательной системой доказательств и не сборник благочестивых поучений. Скорее, это дорожный дневник, карта странствий, мозаика, сложенная из осколков разных миров. Это записки вечного скитальца, чей путь пролегает не столько по географическим просторам, сколько по лабиринтам человеческого духа, по дорогам древних учений и тропам личного, порой безжалостного, опыта.
Герой этой книги, чей голос звучит в каждой строке, дал когда-то, в сумерках старого Исфахана, клятву – не отступать от поисков своей Пери, своего недостижимого идеала. И эта клятва стала для него не проклятием, но компасом. Она повела его не к одной-единственной цели, но превратила всю его жизнь в единый всеобъемлющий Поиск. Он ищет отблески своей Пери, своей Истины, повсюду: в глазах персидской танцовщицы и в парадоксах даосских мудрецов, в священном ужасе перед зияющим колодцем детства и в геометрии сознания, начертанной на песке времени.
Эта книга – приглашение в путешествие. Но будьте готовы: маршрут его непредсказуем. Мы начнем путь в тени персидских минаретов, чтобы тут же оказаться за игровой доской, где Шива и Парвати бросают кости наших судеб. Из хрустального дворца царя Сулеймана, где сама реальность оказывается иллюзией, мы перенесемся в сумрачный скрипторий, чтобы вместе с братом Аэцием разгадывать тайну «Драконов Памяти», живущих в глубинах нашего «Я». Мы услышим, как изящное ругательство Меровингена из «Матрицы» оборачивается теологической формулой, а гексаграмма китайской Книги Перемен находит свое эхо в прозрениях немецкого мистика Якоба Бёме.
Автор этих строк, отстраненно препарирующий верования, – не адепт одной-единственной доктрины. Он – собиратель, коллекционер, почти контрабандист, переносящий смыслы через границы культур и эпох. Он с легкостью находит общий язык между каббалистической тайной косточки Луз и научной прозорливостью барона Кювье, между «Лісовою піснею» Леси Украинки и «Песнью свирели» персидского суфия Руми. Для него нет непроходимых границ. Танец Хлои оказывается ритуалом, родственным вакхическим мистериям, а в священном браке вавилонского бога Мардука слышатся отголоски той вселенской драмы, что позже развернется на Голгофе.
Этот метод, если его можно так назвать, – метод тотального синкретизма, поиска рифм и соответствий в самых, казалось бы, несовместимых учениях. Автор не боится смешивать высокое и низкое, сакральное и профанное. Он способен разглядеть алхимическую мистерию в психической атаке из фильма «Чапаев» и обнаружить сложнейшую геометрию духа в наивных рассуждениях Винни-Пуха на заросшем кладбище. Он слышит зов Бесконечности в детском споре о запонке и видит универсальный закон в истории о енисейском кагане, который пытался примирить в своем сердце Тенгри и Яхве под насмешливое кудахтанье собственных кур.
Это чтение требует от читателя не столько эрудиции, сколько открытости. Готовности отказаться от привычных рамок, от разделения на «свое» и «чужое», и последовать за автором в его смелых, порой головокружительных интеллектуальных пируэтах. Ибо цель этого путешествия – не накопить знания, а пережить преображение взгляда, научиться видеть мир как единый, многомерный текст, где каждая деталь, каждый миф, каждая история связаны с остальными тысячами невидимых нитей.
Но что это за странствие? Это не прогулка по цветущему саду мировых религий с целью собрать букет из самых красивых идей. Путь нашего автора – это путь еретика. Но не в обвинительном, инквизиторском смысле слова, а в его изначальном, греческом значении. Αἵρεσις (ересь) – это «выбор». И вся эта книга – об отчаянном, мучительном и опьяняющем праве на выбор. О смелости не принимать на веру готовые ответы, но «парить над бездной», в том изначальном творческом состоянии мерахефет, о котором говорит Книга Бытия, где Дух еще не сотворил, но уже витает над водами Хаоса.
Герой этой книги – вечный «апикойрес», как называла его одесская бабушка. Не безбожник, но тот, кто задает неудобные вопросы, кто ковыряется в носу, читая священный Хумаш, и спрашивает, не делает ли Всевышний то же самое. Это не кощунство, а попытка сбить пафос, найти живого Бога за бронзовыми ризами догматов. Этот путь – череда вхождений и выходов. Он примеряет на себя идолов юности, как доспехи Геракла, и с горечью осознает, что «великий бог Пан умер». Он погружается в христианство, чтобы ощутить его «разбавленным чаем». Он проходит гиюр, становится иудеем, пляшет на Пурим, чтобы почувствовать вкус «крепкой заварки», но и в ней находит границы. Он принимает ислам, произносит Шахаду, чтобы в итоге, стоя перед волоском из бороды Пророка, задаться вопросом, который ставит под сомнение саму природу авраамической жертвы.
Этот поиск ведется с неумолимой, порой безжалостной честностью по отношению к самому себе. И он не ограничивается лишь интеллектуальными прозрениями. Познание здесь приходит не только через книги и беседы с мудрецами, но и через тело. Тело в этих текстах – не просто «темница души», но чувствительнейший инструмент, способный регистрировать тончайшие вибрации реальности, а порой – и само становиться источником Откровения.
Мы станем свидетелями того, как жестокий удар тока в детстве оборачивается живой иллюстрацией к гексаграмме из китайской «Книги Перемен». Как сломанная в армрестлинге рука внезапно открывает в сознании реальность безмолвного Свидетеля – той второй птицы из Упанишад, что лишь наблюдает, не вкушая плодов. Как взгляд в остекленевшие глаза умирающей кошки, убитой его же рукой, становится страшной, но необходимой инициацией, имплантацией иного зрения.
Боль, травма, болезнь – все это не случайности, а знаки, шифры, которые автор учится читать. Даже предсмертное спокойствие мальчика с лейкемией, смотрящего на мир из окна своей последней комнаты, становится для него уроком высшей мудрости – уроком приятия, преподанным не словами, но тихим сиянием угасающей жизни. Путь к Истине, как выясняется, пролегает не только через медитации и молитвы, но и через переломы костей, электрические разряды и взгляд в глаза смерти. Это алхимия страдания, где из свинца боли выплавляется золото понимания. Этот путь тела и ума разворачивается не в вакууме; он вписан в грандиозную, порой пугающую, картину мироздания, где за каждым поворотом нас ждет новое испытание или новое зеркало.
Главный нерв, пронизывающий все это многообразие сюжетов, – вечная диалектика Явленного и Сокровенного, Порядка и Хаоса, Бытия и Ничто. Автор, словно опытный ныряльщик, погружается в мутные воды преданий и мифов, чтобы достать со дна жемчужину парадокса. Он учит нас видеть за евангельской историей о чуде с монетой во рту рыбы не просто притчу о Божественном изобилии, а мистерию божественного Жребия, рифмующуюся с праздником Пурим, где за видимой случайностью скрыта незримая Длань Провидения.
С ним мы оказываемся на вершине вавилонского зиккурата Этеменанки, чтобы стать свидетелями священной свадьбы бога Мардука и земной царевны. Но этот ритуал, призванный утвердить космический порядок, оборачивается откровением об изначальном Зле, лежащем в основе самого Творения. Порядок рождается из убийства Матери-Бездны, и каждый акт созидания несет в себе семя собственного разрушения. Эта безжалостная диалектика пронизывает всю книгу.
Мы учимся различать два потока человечества – род «перстного» Эноша и род «небесного» Адама, для каждого из которых существует свое Великое Делание, своя алхимия. Мы видим, как «Застава без ворот» учения Дзен, воплощенная в одном-единственном слове «Нет!», становится ключом к освобождению от всех концепций, даже от образа самого Будды. И рядом – мучительные поиски немецкого мистика Гихтеля, который в своей душе ведет отчаянную борьбу между этим «Нет» сомнения и «Да» веры, пока Божественное Присутствие не разрешает этот конфликт в огне мистического единения.
Книга ставит перед нами предельные вопросы. Шутит ли Бог, и если да, то не является ли Его шутка актом «гавдалы» – разделения тех, кто понял, от тех, кто нет? Можно ли быть одновременно еретиком-«апикойресом» и добропорядочным верующим? Не является ли вечерний стакан водки хасидского праведника рабби Фишеля актом высшего сострадания к страдающему вместе с миром Богу? И что такое «третья смерть» – не просто гибель тела или души, а добровольное растворение в предвечной Тьме, что была до всякого Света, сокрытой за черными буквами Торы?
Автор не дает готовых ответов. Он лишь распахивает двери, показывает новые коридоры в лабиринте, указывает на трещины в монолите привычных представлений. Он предлагает нам посмотреть на мир глазами мертвой кошки, чтобы увидеть его подлинную, не приукрашенную реальность. Он заставляет нас услышать, как на внутренней стороне счастливой улыбки замерзающего Лукаша из «Лісової пісні» проступает безмолвная, торжествующая улыбка Мавки – девицы потустороннего мира Нави. Он показывает, как в простейшем жесте ребенка, приписывающего нули к единице, отражается вечная судьба человека – попытка объять Бесконечность, и как эта же арифметика разоблачает «вечно-русскую бездну» в метафизике Юрия Мамлеева, где попытка построить вечность на нуле оборачивается падением в ничто.
Эти тексты – не для слабонервных. Они требуют мужества взглянуть в лицо парадоксам, признать, что под тонкой пленкой порядка всегда дышит Хаос. Как в беседе с Милорадом Павичем о Енисейском каганате, где великая мечта о синкретической вере, соединившей Тенгри и Яхве, оборачивается зловещим пророчеством о «панмонголизме» под крик петуха, возвещающего то ли рассвет, то ли конец времен.
В конечном счете, эта книга – о Поиске. Но не о поиске окончательной Истины, которая успокоит ум и даст все ответы. А о поиске как о способе жить, как о самом процессе, который и есть цель. Герой этой книги, начав свой путь с клятвы найти свою Пери, в конце концов понимает, что она – не конечная точка маршрута. Она – в каждом повороте дороги, в каждом найденном осколке смысла, в каждой встрече, будь то с хасидским ребе, китайским мудрецом, офицером ФСБ или мертвой кошкой. Она – в самом дыхании Эльбруса, в его ледяной любви, дарующей трезвость души. Она – в неуловимом «сокровенном свете» Лао-цзы, мерцающем между полюсами силы и слабости, бытия и небытия.
Эта книга – об остановке. О той точке тишины, где поиск исчерпывает себя, и в опустевшем пространстве сознания вдруг проступает след искомого. О том, как важно вовремя разувериться в своей вере, а потом – разувериться и в своем разуверении, чтобы остаться один на один с безмолвной, невыразимой Реальностью. О том, как важно, переплывая реку жизни, по совету Чапаева, забыть о берегах и стать самим потоком.
Это приглашение выйти за пределы квадрата своего ума, сломать привычные рамки и взглянуть на мир из точки, где Восток встречается с Западом, где святой встречается с шутом, а Бог, возможно, просто отпускает хорошую шутку, ожидая, поймем ли мы ее.
Если вы готовы к такому путешествию, если не боитесь вопросов, на которые нет ответов, если вас манит не столько гавань, сколько само плавание по безбрежному океану духа, – тогда смело открывайте эту книгу. Она не даст вам покоя, но, возможно, подарит нечто большее – вкус подлинной свободы. Свободы задавать вопросы, свободы сомневаться, свободы искать. И, может быть, в этом поиске вы, как и автор, мельком увидите тень крыльев своей собственной, вечно ускользающей Пери.
Клятва скитальца
В сумерках старого Исфахана, среди узких улочек древнего города, я сидел в чайхане с облупившимися стенами, на которых едва угадывались фрески времен Сефевидов. Напротив меня расположился уставший путник с обветренным морщинистым лицом. Он не притрагивался к своему чаю, вместо этого вертя в руках потертый медальон на серебряной цепочке.
– Видите этот медальон? – спросил он, заметив мой взгляд. – В нем нет портрета, но есть клятва, написанная мною сорок лет назад.
Он раскрыл медальон и позволил мне прочесть строки, выгравированные внутри тонким, изящным почерком:
Пери, пери, позор мне,
Если я увижу земную жену,
И с нею пребуду удовлетворенным,
Или перестану вздыхать и тосковать по тебе.
(Persian Tales, translated by D.L.R. Lorimer and E.O. Lorimer and illustrated by Hilda Roberts, 1919).
Когда я поднял глаза, выражение его лица изменилось – взгляд устремился куда-то вдаль, за стены чайханы, за пределы Исфахана, словно через пространство и время.
– Мне было девятнадцать, – начал он тихо, – когда я увидел её на берегу Каспийского моря. Закат окрашивал воду в цвета расплавленного золота, и она стояла по щиколотку в волнах, с крыльями, сотканными из вечернего света.
– Вы видели настоящую пери? – спросил я, не в силах скрыть скептицизм.
Он улыбнулся, не обидевшись на мой тон.
– Каждый видит пери по-своему. Для одних она – лишь персонаж сказок, для других – метафора недостижимой красоты. Для меня она была реальнее всего, что я встречал до и после.
Он сделал глоток остывшего чая и продолжил:
– Она не говорила со мной, лишь смотрела глазами цвета горного неба. А потом развернулась и пошла в море, с каждым шагом уходя всё глубже, пока волны не сомкнулись над её головой. Я бросился следом, но нашел лишь пустую воду и перламутровую раковину на песке.
Старик осторожно закрыл медальон и спрятал его под одежду, ближе к сердцу.
– С того дня я отправился на поиски. Объездил весь Персидский залив, исходил берега Каспия, взбирался на вершины Эльбурса и спускался в долины Шираза. Я искал ее в отражениях озер и в миражах пустынь. Миновали весны и зимы, десятилетия сменяли друг друга, а я всё искал.
– И вы ни разу не нарушили своей клятвы? – спросил я, кивая на медальон у его сердца.
Морщины вокруг его глаз собрались в подобие улыбки.
– Были те, кто пытался заставить меня забыть. Дочь купца из Шираза, чьи глаза напоминали звёзды в безлунную ночь. Танцовщица из Бухары, двигавшаяся словно языки пламени. Вдова с побережья, голос которой звучал как песня южного ветра. Но каждый раз, когда я был готов нарушить клятву, я чувствовал на своей коже соленый бриз Каспия и видел перед собой её глаза.
Он замолчал, разглядывая узоры на ковре под нашими ногами, словно в них скрывалась карта его странствий.
– Теперь я стар, – продолжил он наконец. – Моя борода белее снегов Демавенда, а спина согнута годами поисков. Но иногда, в предрассветный час, когда мир балансирует между ночью и днем, я чувствую её присутствие – легкое как крыло мотылька прикосновение к моему лбу, едва уловимый аромат жасмина и моря.
– Вы сожалеете? – спросил я, глядя на его узловатые пальцы, сжимающие чашку.
– О чем? О том, что не выбрал земную жену, дом с садом и детей, играющих под гранатовыми деревьями? – Он покачал головой. – Жизнь в погоне за видением может показаться пустой тратой времени. Но я прошел через горы и пустыни, видел рассветы над святынями и закаты над руинами древних городов. Я слышал песни, которых больше никто не поет, и читал стихи, написанные на языках, которые давно мертвы.
Он поднял глаза, и в них я увидел не угасший огонь юности:
– И в каждом прекрасном мгновении, в каждом чуде этого мира я видел отблеск её красоты. Каждый шаг моего странствия был шагом к ней, даже если я никогда не достигну цели в этой жизни.
Над Исфаханом сгущались сумерки. Звучал вечерний азан, призывая верующих к молитве. Мы вышли из чайханы на узкую улочку, и старик остановился, глядя на первые звезды, проступающие на темнеющем небе.
– Говорят, пери обитают между землей и небесами, – сказал он тихо. – Может быть, скоро я присоединюсь к ней там, на границе миров.
Он повернулся, чтобы попрощаться, и в последних лучах солнца мне показалось, что позади него мелькнула тень крыльев – должно быть, игра света на старых кирпичных стенах.
– Пери, пери, позор мне, если я перестану тосковать по тебе, – прошептал он в вечерний воздух, и его слова словно растворились в наступающей темноте.
Когда я обернулся, чтобы еще раз взглянуть на странника, улица позади меня была пуста, лишь аромат жасмина и соли висел в воздухе, принесенный ветром неизвестно откуда.
Игра в чаупар под оком вечности
Игра. Древняя, как сами звезды, и причудливая, как узоры на крыльях ночной бабочки. Чаупар. Игровое поле – сама ткань мироздания, расчерченная линиями судьбы и полями возможностей. Фишки – это мы, люди, души, скользящие по этой доске. А игроки… о, игроки велики! Говорят, это сам Шива, Бог Разрушения и Танца, и его вечная супруга Парвати, Богиня Силы и Любви. Они сидят друг против друга, где-то за пределами видимого мира, и бросают кости.
Кости… Не простые кубики из слоновой кости. Это сама Случайность, пойманная и заключенная в грани. Бросок – и хаос обретает форму. Случайное, ворвавшееся из Ниоткуда, становится Необходимым, ткет узор твоей жизни, моего дня, судьбы империй. Мы движемся по доске, послушные выпавшим числам.
Нам кажется, что мы выбираем путь. Что у нас есть воля, свобода. О, Боги щедры! Они даруют нам эту иллюзию, как сладкий дурман. Они позволяют нам спотыкаться о мелкие случайности – встретить незнакомца, опоздать на самолет, найти потерянную монету. Эти мелкие камни на дороге жизни создают ощущение выбора, ощущение субъектности. Мы – игроки! Мы сами ведем свою партию!
Но так ли это? Что насчет великой случайности? Того броска костей, что меняет все? Внезапная болезнь, удар молнии, встреча, переворачивающая жизнь, война, любовь до гроба… Невидимая рука, направляющая кости в этот судьбоносный миг – не Их ли это рука? Не Шивы ли, смеющегося над нашими планами? Не Парвати ли, плетущей нити наших судеб?
Этот решающий бросок делается не здесь, не на нашей доске. Он приходит из иного пространства, из мира иных измерений, иных степеней свободы. Нашими глазами его не увидеть, нашим разумом не постичь. Пытаться предсказать его – все равно что пытаться угадать узор снежинки, еще не упавшей с небес.
Но есть способ заглянуть туда. Не глазами – Оком. Оком божественного безумия.
Мудрость и безумие… две стороны одной медали, вечно играющие друг с другом. В истинной мудрости всегда есть капля святого безумия – дерзость выйти за пределы логики, довериться невидимому. А в божественном безумии – своя, парадоксальная мудрость, видящая то, что скрыто от глаз разумных и расчетливых. Юродивый Христа ради, дервиш, танцующий на грани миров, шут при троне Шивы… Они видят Игру.
Что есть это божественное безумие? Благоразумная жертва? Осознанный отказ от иллюзии контроля, от своего маленького «я» ради того, чтобы стать чистым каналом для Воли Богов? Или это и есть та самая великая случайность, тот непредсказуемый бросок костей самого Творца, выбивающий душу из колеи обыденности и открывающий ей вход в Бейт Яхве – Дом Божий, центр Игры?
И вот он – «слуга Его божественно безумный», как поет Кабир. Он знает. Он знает, что им играют. Что он – лишь фишка на доске Шивы и Парвати. Но, зная это, он обретает иную свободу. Он сам играет. Он принимает правила, принимает броски костей, но его танец на доске – это уже не слепое подчинение. Это осознанное со-творчество, это игра внутри Игры. Он смеется вместе с Шивой, он плачет вместе с Парвати. Он движется по полям судьбы, но его душа уже не привязана к фишке. Он – вне игры, даже находясь в самой ее гуще.
А судьба всех остальных? Тех, кто цепляется за иллюзию контроля, кто пытается просчитать ходы Богов, кто боится случайности и жаждет гарантий? Их участь – в броске игральных костей. В том самом, что приходит из иного измерения. Они – лишь фишки, ведомые невидимой рукой, пока не придет их черед быть сброшенными с доски.
Так кто ты в этой игре? Фишка, слепо следующая броску? Или безумец, танцующий на грани миров, видящий Руку Игрока и смеющийся вместе с Ним?
Чаупар продолжается. Кости летят. Шива улыбается. Парвати наблюдает. А ты… делаешь свой ход. Или Его?
Хрустальный дворец и зеркала Сулеймана
В чертогах, где сам воздух был соткан из аромата ладана и вибраций имен, сокрытых в ангельских алфавитах, царь Сулейман, повелитель людей, джиннов и ветров, ожидал прибытия той, чья слава шла впереди караванов – Билкис, царицы Савской. Ее ум был остер, как обсидиановый кинжал, а красота – как затмение, заставляющее даже звезды замереть на небе. Но Сулейман искал не только равную по блеску драгоценность. Он искал зеркало для истины, способное не только отражать, но и раскрывать суть отражённого.
Говорят, он повелел джиннам воздвигнуть дворец, подобного которому не знал даже Энох. Не из мрамора или золота, но из чистейшего хрусталя, отполированного до состояния исчезновения. Пол дворца был гладок, как поверхность замершего времени, а стены – настолько прозрачны, что казались отсутствием стен. Дворец стоял на грани между видимым и невидимым, между бытием и его отражением.
И вот настал миг. Царице Савской было сказано:
– Войди во дворец.
Она шагнула, царственная и лёгкая, как рассвет над песками. Но внезапно замерла. Под ногами раскинулся глубокий водоём. Или – казалось, что водоём. Иллюзия была столь совершенной, что сердце пропустило удар. Инстинктивно она приподняла подол своих одежд, чтобы не замочить их в мнимой воде.
И тут раздался спокойный голос Сулеймана:
– Не бойся воды там, где её нет. Это зеркало, но не лужа. Это пол, но не земля. Это истина, выстроенная из хрусталя.
Она коснулась его ногой. Твердый. Не вода – но её абсолютное подобие. Отражение без искажений. Иллюзия, которая не лжёт, но показывает предел восприятия.
– Господи мой! – воскликнула Билкис. – Я причинила несправедливость своей душе.
Это было первое зеркало. Зеркало, в котором она увидела ограниченность органов чувств и признала, что то, что мы воспринимаем, не всегда то, что есть.
Но на этом испытание не окончилось.
Ранее, ещё у входа, она узнала нечто ещё более странное: её собственный трон, перенесённый из далёкой Сабы, уже стоял перед ней. Сулейман спросил:
– Таков ли трон твой?
И Билкис, вглядевшись в знакомые очертания и тонкие инкрустации, произнесла слова, которые стали предметом размышлений мудрецов на века:
– Как будто бы это он.
"Ка'аннаху хува" – "Как будто бы это он".
В этих словах – врата к тайне Творения.
Ведь если творение каждое мгновение возобновляется, как учат пророки и мудрецы, если материя – лишь тень форм, которые миг за мигом гаснут и возжигаются вновь, то тот ли это трон? Или – его точное подобие, воссозданное в ином времени, в ином пространстве, из иного "сейчас"? То, что мы видим как "то же самое", – на самом деле новое, словно вновь произнесённое слово, похожее на старое, но уже с другим дыханием.
И Сулейман понял, что она поняла.
Но был и третий зал. Самый потаённый.
Царицу провели в комнату без дверей, без окон, без потолка. Только зеркала. Тысячи зеркал, отражающих друг друга в бесконечность. Там она увидела себя – в каждом возрасте, в каждой возможности, в каждой судьбе. Там были Билкис, что не поехала, Билкис, что подчинилась, Билкис, что умерла в младенчестве. И Билкис, что слилась с Тенью, став её голосом.
Сулейман сказал:
– В этом зале ты не ищешь истины. Ты – её создаёшь.
– Как это возможно? – спросила она.
– Потому что ты – одно из зеркал, – ответил он. – Ты думаешь, что смотришь, но на самом деле отражаешь. То, что ты узнаёшь, уже было внутри тебя. А если не было – оно не будет узнано вовсе.
В тот момент она ощутила: мир не отражает реальность – он отражает способность её видеть.
И это был апогей: она поняла, что знание – это не накопление, а узнавание того, что всегда было. Но узнавание должно быть двойным. Узнать форму – и узнать, что она не та же, но всё ещё она.
И тогда Сулейман подвёл её к последнему зеркалу – которое не отражало её вовсе.
– Это зеркало покажет тебе то, кем ты могла бы быть, если бы не ошибалась никогда.
Она посмотрела.
И там был Свет.
Не форма, не лицо, не образ. Только сияние, наполненное именами, что не поддаются человеческому произнесению.
И тогда, наконец, она склонилась.
– Я не только причиняла себе несправедливость. Я считала справедливым лишь то, что могла постичь. А теперь – я вижу, что знание не в обладании, а в смирении перед Тем, Кто творит знание.