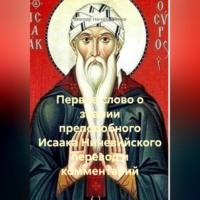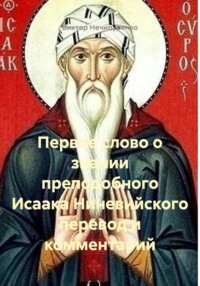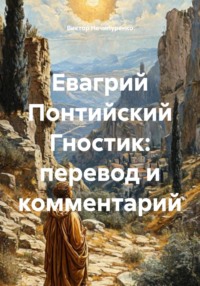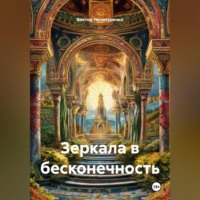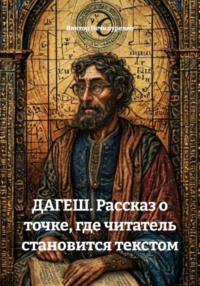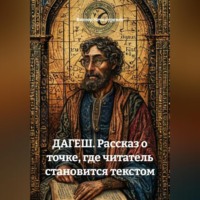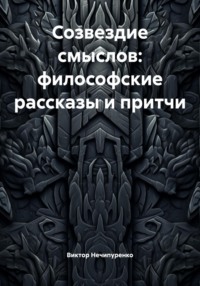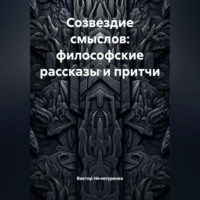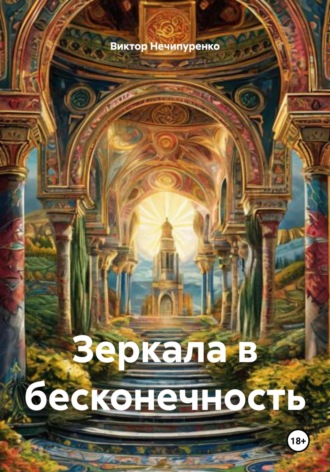
Полная версия
Зеркала в бесконечность
И с этим она предалась Господу Миров, вместе с Сулейманом.
Так стал дворец из хрусталя и зеркал не только испытанием. Но и мимом реальности.
Трон, что “как будто бы” тот же.
Вода, что “как будто бы” была.
Образ, что “как будто бы” ты сам.
И всё – лишь формы, возобновляемые каждое мгновение.
А в центре – Свет, который не отражается. Только узнаётся.
Белая птица
В пространстве, где сама тишина, казалось, была соткана из белого войлока, возникла фигура. Костюм на ней – ослепительный, неземной белизны – сиял, отражая редкие блики несуществующего света. Белый. Как это было… властно. Этот цвет не просто одевал – он окрашивал саму суть, пропитывал воздух, менял акустику мира. Слова, исходящие от этой фигуры, обретали иной вес, иную текстуру. Белые слова, слетающие с губ облаченного в белое. Недоверие казалось неуместным, почти кощунственным инстинктом.
Голос его – спокойный, ровный, как гладь замерзшего озера, лишенный малейшего намека на эмоцию – не проникал, а скорее просачивался сквозь ушные раковины. Он не требовал внимания, он окутывал им. Мягкие, невидимые, пушистые ладони этого голоса нежно касались глубин сознания, той самой подкорки, где дремлют инстинкты и рождаются сны. Голос-убаюкивание, голос-наркоз. Он согревал, но не жаром – а той специфической теплотой, с которой белая птица сидит на кладке, вынашивая нечто хрупкое и безгласное.
Да, белая птица. Фигура в белом костюме сама казалась ею – порождением алхимического albedo, стадии очищения, где все лишнее сгорает, оставляя лишь сияющую пустоту. Белая птица, издающая белые звуки, сплетенные в гипнотические узоры белых слов. Говорящая птица, высиживающая в чужом сознании свои белые яйца…
Или это лишь почудилось? Игра света и тени на безупречной белизне?
Внезапно, словно разрыв в этой стерильной ткани бытия, в пространстве над подкоркой, там, где только что гнездилась белая птица, взметнулась другая. Обугленная, неистовая, с глазами-угольками – «Еврейская птица» Бернарда Маламуда. Она не пела, она кричала, и крик ее был огнем, метнувшим в одурманенную память пылающие слова:
– Ты не знаешь, куда летишь?
– Туда, где еще есть милосердие!
Резкий контраст. Яростный поиск милосердия против убаюкивающей белизны безразличия.
И от этого столкновения, от этого диссонанса – пришло пробуждение. Парадоксально, но именно белоцветный, монотонный голос, зовущий ко сну, стал толчком к ясности. Он продолжал звучать, но теперь его пушистые ладони казались ловушкой, его тепло – обманом, его чистота – стерильностью смерти.
Он говорил, и из его белых, успокаивающих ладоней теперь явно, зримо вылетали белые птицы. Не одна – множество. Они бесшумно взмывали и устремлялись прочь, в мир.
Прежде их полет был бы тайной. Но теперь, после огненного крика той, другой птицы, после пробуждения от белого сна, их путь стал ясен. Стало ведомо, куда они летят и какую весть несут – весть белого покоя, белого забвения, белого молчания там, где еще отчаянно ищут милосердие.
Малайский театр теней
Мир как театр теней – образ древний, универсальный, но мало где он обрел такую глубину и разработанность, как в исламском мистицизме. Малайский суфий Хамза Фансури, зная мудрость, воплощенную в яванском теневом театре ваянг кулит, видел в игре света и тени на экране совершенную метафору бытия. Эта метафора – ключ к пониманию суфийской космологии, природы реальности и конечной цели духовного пути – растворения в Едином.
Все начинается, как учат суфии, с Вахда – Изначального Единства, которое, однако, еще не есть само Непостижимое Ничто, но его первая эманация, его «тень». На этой ступени, на этом предвечном экране, и разворачивается великий театр теней – ваянг. Все многообразие тварного мира, все существа, все события – это лишь ваянг, тени, отбрасываемые куклами. А кто же движет этими куклами, кто является источником их кажущейся жизни и действия? Это Даланг – кукловод, режиссер, сам Всевышний Бог, единственный подлинный Актер за ширмой бытия.
Эта метафора радикально переосмысляет наше восприятие реальности. Бренный мир со всеми его обитателями – лишь тени, лишенные собственной субстанции, полностью зависимые от Света за экраном и от руки Даланга. Знай, о скиталец, напоминает суфийский поэт, что твое собственное «я», твоя индивидуальность, твои мысли и чувства – тоже лишь ваянг, тень, мелькающая на мгновение и не имеющая независимого существования. Она реальна лишь в той мере, в какой отражает свет Даланга, но сама по себе – иллюзия.
Однако суфийский путь не останавливается на простом осознании иллюзорности мира и себя как тени. Это лишь начальная ступень, подготовка к главному прозрению. Что есть сам Даланг? Что есть эти куклы-тени? Какова высшая истина об этом вселенском спектакле, об отношении Господина и слуги, Творца и творения?
Даланг и ваянг, Господин и слуга, и даже само наше бытие, наше «я» – все это в конечном счете относительно. Это категории, необходимые для описания игры, но не отражающие Абсолютную Реальность. Они – часть той двойственности, которую необходимо преодолеть.
Какова же последняя истина? «Зрение опустошается, побежденное Единым». Это описание состояния фана – мистического исчезновения, растворения. Когда адепт приближается к созерцанию Единого, сама способность различать, воспринимать отдельные формы, включая и себя, и Бога как «Другого», исчезает. Исповедники, пророки, святые – все они «слепнут, лишаются слуха, дара речи, вкуса». Это не физическая слепота, но духовное состояние, когда все чувства и сам разум тонут в ослепительном Свете (или Тьме) Абсолюта, который превосходит любое восприятие.
Душа и тело, само различие между ними, растворяются в Небытии, возвращаются в то состояние, которое было до их сотворения. Это не просто осознание своей теневой природы, но полное исчезновение тени в Источнике Света. Истинное совершенство заключается в том, чтобы «покончить со всяким восхвалением и поклонением, признанием кого-то Господином». Ибо в Чистом Ничто, в Абсолютной Реальности, нет места двойственности, нет разделения на поклоняющегося и Поклоняемого.
«Слуга исчезает, не став Господином». Тень не становится кукловодом. Творение не становится Творцом. Оно просто исчезает, растворяется в своем Истоке, осознавая свою изначальную нераздельность с Ним, которая была лишь временно забыта в игре теней.
Вот оно – «высшее видение»! Не просто видеть мир как театр теней, но пережить исчезновение и театра, и зрителя, и самого Даланга как отдельной сущности в безмолвии и полноте Единого, которое есть Чистое Ничто за пределами всех имен и форм. Метафора ваянга, начавшись с разделения на Даланга и тень, приводит суфия к точке, где сама эта метафора рушится, оставляя лишь неописуемую Реальность.
Драконы Памяти
В сумраке древнего скриптория сидел брат Аэций. Не монах по обету, но по призванию души, он был вечным послушником у алтаря забытых текстов. Перед ним, под дрожащим светом единственной лампады, лежал ветхий свиток Третьей Книги Ездры, писанный на латыни, что сама казалась драконьей чешуей времени.
Его палец, испачканный чернилами и пылью, замер на строке, от которой веяло грозной тайной: «et post haec supervalescet draco nativitatis memoria suae, et si converterint se conspirantes in virtute magna ad persequendos eos…» – «И после этого превозмогут драконы, помнящие рождение свое, и обратятся совоздыхающие в силе великой на преследование их…»
Draco nativitatis memoria suae… Драконы, помнящие свое рождение. Кто они? Не ящеры из легенд, не символы имперской власти. Аэций чувствовал – здесь сокрыто нечто глубже, нечто, касающееся самой сути бытия, самой ткани души.
Мысли его, словно испуганные птицы, метнулись к другому мудрецу, бродившему некогда по лабиринтам памяти, – к Августину. «Ego sum, qui memini, ego animus» – «Я есмь, тот кто помнит, я – дух/душа/разум». Память – это и есть «Я». Но Августин метался: как найти Бога, пренебрегая памятью? А если Он в памяти, то как найти Его, если не помнишь Его? Парадокс, змея, кусающая свой хвост.
Не в Animus ли, в этой душе-памяти, и живет тот самый Дракон? Дракон, помнящий не просто мгновения жизни, но само Рождение – тот изначальный Исток, ту Искру, что была до времен, до разделения? Не он ли, этот внутренний Змей, и есть та сила, что «превозможет», пробудившись? Не он ли «совоздыхает» (conspirantes – дышащие вместе) в virtute magna – в великой силе intentio animi, устремления духа к своему Началу?
Память… Не хранилище мертвых фактов, но живой Океан, где плавают тени прошлого, образы настоящего и предчувствия будущего. Как учил Гегель, Дух, чтобы познать себя, должен вспомнить все свои прежние ипостаси, гештальты, все личины, которые он носил на пути к самосознанию и преображающей Голгофе. Память – это не линия, это – круг. Спираль.
Уроборос! Вот он, символ! Вселенский Змей гностиков, «пронизывающий все вещи», кусающий собственный хвост. Не есть ли Память этот Уроборос? Не есть ли Бог, свернувшийся кольцами в самой глубине нашего Animus, этот вечный Змей Памяти? «Вечная память», которую поют на литургиях, – не просто пожелание, но заклинание, пробуждение этого Дракона-Уробороса внутри. Не в муладхаре, как Кундалини, но в самых корнях сознания, в той точке, где «Я» помнит свое «Рождение».
Книга Жизни… Сефер – не только книга, но и сфера, круг. Сефер Толедот – Книга Родословия, Книга Рождений. Это и есть Книга Памяти, Свиток-Уроборос. И пророк Иезекииль съедает этот свиток, вбирает Память в себя, становится ею.
И снова слова Ездры: «Превозмогут драконы, помнящие рождение свое… совоздыхающие в силе великой…» И эхо из другой Книги, из Тайной Вечери: «Сие творите в Мое воспоминание…» (εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν). Не просто «в память обо Мне», но «в Мое воспоминание» – в акт пробуждения Моей памяти в вас, в акт соединения с тем Драконом Памяти, что помнит Рождение Сына в лоне Отца до всех веков! Литургия – не символ, но алхимия, пробуждающая Уробороса в крови и духе.
Аэций закрыл глаза. Скрипторий исчез. Он оказался внутри. Внутри своей Памяти, которая была бездонна, как космос. Он чувствовал Его – свернувшегося кольцами Дракона, древнего, как само время, спящего в глубине его Animus. Он ощущал Его медленное, могучее дыхание, которое было и его собственным.
Он начал вспоминать. Не детство, не юность. Он вспоминал то, чего не мог знать – рождение звезд, кипение первозданного Океана, парение Элохим над бездной. Он вспоминал свое Рождение – не из чрева матери, но из Лона Небытия, из Ока Источника. Память эта была острой, как боль, и сладкой, как запретный плод.
Дракон внутри него шевельнулся. Его чешуя была соткана из мгновений, его глаза – из звезд. Он разворачивал свои кольца, и Аэций чувствовал, как его собственное сознание расширяется, охватывая эпохи, миры, жизни… Он стал этим Драконом, помнящим свое Рождение.
И он понял: «превозмочь» – значит не победить врагов внешних, но пробудить эту Силу внутри. «Совоздыхать» – значит дышать в унисон с этим Драконом, с этой изначальной Памятью. «Преследовать» – значит устремляться не к земным целям, но к тому Истоку, о котором помнит Дракон.
Он открыл глаза. Лампада все так же мерцала, отбрасывая причудливые тени на древние свитки. Но мир изменился. Аэций видел теперь не просто буквы на пергаменте – он видел следы Дракона Памяти. Он слышал не тишину скриптория – он слышал шипение Уробороса, вечно пожирающего и вечно рождающего время.
Он – Аэций, смиренный книжник – стал Драконом, помнящим свое рождение. И он знал, что теперь его путь – это путь преследования. Преследования той Искры, что вспыхнула в нем, когда он вспомнил. Путь домой, к Истоку, по спирали Памяти, ведомый вечным Зовом Уробороса. Ибо тот, кто вспомнил Рождение, уже превозмог смерть.
Nom de Dieu: внутренняя сторона ругательства Меровингена
Помните Меровингена? Того элегантного, скучающего мерзавца из цифровой реальности, который научил мир не только ценить хорошее вино, но и ругаться по-французски с особым шиком. Его знаменитая тирада – «Nom de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard d’enculé de ta mère» – прокатилась по планете, как вирусный мем. Изящный каскад грязи, симфония похабщины, ставшая для многих (принадлежащих к виду homo sapiens весьма условно) эталоном экспрессии.
И наш герой не остался в стороне. Не на Марсе же живет! Он подхватил эту формулу, как драгоценный артефакт. Поначалу – просто забавлялся. Отрабатывал произношение, подражая бархатному голосу Меровингена. Повторял ее по поводу и без. Сама музыка фразы завораживала, а смысл… да кто вникает в смысл ругательств? Это же просто пар, способ выпустить эмоции.
Но что-то пошло не так.
Эта «благословенная формула» оказалась не просто набором слов. Она была… живой? Или, скорее, программой. Вирусом, проникшим в операционную систему сознания. Герой почувствовал – шестым чувством, интуицией на грани паранойи, – что внутри начались странные процессы. Что-то щелкало, сдвигалось. Его когнитивная система, его привычная картина мира начала подвергаться пересборке.
Стало страшно. По-настоящему. Сон пропал, покой улетучился. Ругательство перестало быть просто фразой. Оно проросло в сознании, как цепкая лиана. Оно требовало себя воспроизводить – вслух, мысленно, постоянно. Оно стало центром, вокруг которого вращалось его «Я». Оно пожирало его, обвивало липкими щупальцами смысла (или бессмыслицы?), заставляя его собственное сознание вращаться вокруг этой черной дыры непристойности. Неодолимая, иррациональная магическая сила сделала его рабом этой фразы. Он попал в лингвистическую ловушку, в заколдованный круг французского мата.
Паника. Отчаяние. Поиск выхода.
И тут – озарение. Как можно было быть таким слепцом? Ведь формула начинается не как попало. Она начинается со слов: «Nom de dieu…» – «Именем бога…».
Именем Бога! Вот где ключ! Не в грязи последующих слов, а в самом начале, в этом почти священном возгласе. Но если это ругательство, если это поток нечистот, то «Именем бога» здесь – это насмешка? Перевертыш? Означает ли оно на самом деле свою противоположность – «Именем антибога», именем того, кто противостоит Творцу?
И тут разум сделал следующий головокружительный пируэт. А что если… эти две фразы – «Именем Бога» и «Именем антибога» – не противоречат друг другу? Что если они – как две стороны одной медали? Внешняя и внутренняя стороны единого, парадоксального смысла?
Мир двойственен. У всего есть лицевая сторона и изнанка. У света есть тень. У святости – искушение. У Бога – Его Тень, Его Отрицание, которое, тем не менее, является частью Его же непостижимого Замысла.
Ругательство Меровингена – идеальное воплощение этой двойственности. Внешняя сторона – грязь, похабщина, низменные инстинкты, бунт против всякой чистоты и порядка. Это сторона «антибога», сторона разрушения.
Но есть и внутренняя сторона. Она скрыта за потоком нечистот, но она есть. Это изначальное «Nom de dieu». Имя Бога. Божественное присутствие, которое остается чистым и священным, даже когда облекается в самые грязные одежды, даже когда произносится в контексте бунта и отрицания. Более того – возможно, именно через это отрицание, через это погружение в грязь и хаос, Божественное и проявляет себя наиболее полно, испытывая свои границы, играя со своей Тенью?
Сознание, не видящее этой двойственности, обречено вращаться по кругу, захваченное либо одной стороной, либо другой. Большинство видит только внешнюю грязь, отшатываясь или цинично упиваясь ею. Немногие фанатики пытаются видеть только внутреннюю «святость», игнорируя внешнюю форму.
Но истинный Зрячий, тот, кто прошел через пересборку, кто заглянул в бездну ругательства и не утонул в ней, – прозревает обе стороны одновременно. Он видит Божественное, сияющее сквозь грязь. Он слышит Имя Бога, звучащее в самой сердцевине богохульства. Он понимает, что чистота и скверна, порядок и хаос, Бог и Его Тень неразрывно связаны в этом безумном танце бытия.
И тогда формула перестает быть проклятием. Она становится… мантрой иного порядка. Не призывом к чистоте, но признанием тотальности бытия, включающего в себя и бордель, и дерьмо, и святость Имени. Она перестает пожирать сознание, потому что сознание само расширяется, чтобы вместить этот парадокс.
«Nom de dieu de putain de bordel…» – шепчет он теперь уже без страха. Не как раб формулы, но как посвященный в ее тайну. Тайну единства противоположностей. Тайну, которую, возможно, и пытался поведать скучающий Меровинген между бокалом бордо и очередной перестрелкой в Матрице. Тайну Имени Бога, звучащего даже на самом дне бытия.
Седьмой Дух гексаграммы Цянь
Было время, когда Книга Перемен поглотила меня целиком. Я жил в её лесах из триграмм, бродил по рекам сплошных и прерванных черт, надеясь заполучить ключ к её безмолвным тайнам. Древнее предание гласит, что ключ этот начертан на панцире священной черепахи. Он видим лишь в полнолуние, в тот краткий миг, когда «временная волна» выносит его на поверхность.
Ночи напролёт я проводил у воды, чей запах стал частью меня. Я переловил немало черепах, вглядываясь в узоры на их спинах под ртутным блеском луны, но они оставались немы. И вот однажды, когда отчаяние почти сменило надежду, я поймал Её. В узоре её панциря, в один немыслимый миг, проступила и засияла живая идеограмма, ключ, объясняющий 乾 (Цянь). Успев прочесть его, я понял перевод первой гексаграммы:
Цянь движется вверх,
Цянь движется вниз —
Небесный Цянь.
Это не было просто описанием. Это было откровением. Шесть сплошных линий – шесть ударов сердца космоса. Шесть стадий творения, зачатия, рождения. Ритм самого Неба, «подвижного образа вечности», отраженный в мудреце.
Но вопрос остался: кто же такой Цянь? Мы знаем шестирукого Кришну и шестирукую Кали. Почему не может быть шестипроявленного Цяня, чьи шесть черт – его деяния?
Я понял, что пытаюсь измерить океан чашей. Цянь – не бог среди богов. Это само божественное как действие. Это космическое дыхание, вдох и выдох Дао. Но как же его плодородие, его фертильность? Я поймал себя на нелепом, почти еретическом вопросе: не присуща ли этой чисто янской силе какая-то скрытая, иньская фертильность? Как огонь может нести в себе природу воды? Вопрос казался абсурдным, нарушающим сами основы Книги. Шесть сплошных линий – это несгибаемый Ян. И всё же, интуиция не отпускала.
И тут я вспомнил слова Якоба Бёме, мистика, который смотрел на Запад, но видел Восток: в Божестве «непостижимым образом качествуют шесть духов». Но есть и седьмой, говорил он, и «он есть тело всех духов, в котором они все рождаются, как в едином теле».
Вот он, ответ, данный не на панцире, а в глубине сердца, ответ на мой "неправильный" вопрос.
Шесть черт Цянь – это шесть духов творения. Но их совокупность, их единство и есть тот самый Седьмой Дух. Это Ян, доведенный до своего абсолютного предела. Это творческая сила, настолько тотальная, что она сама становится «телом», матрицей, в которой только и может родиться что-либо. Она не становится иньской, она порождает саму возможность Инь. Её фертильность – не в пассивной восприимчивости, а в активном создании самого пространства для восприятия.
Цянь – это художник, который в своем высшем акте творения создает не только картину, но и холст, на котором она написана. Его шесть драконов, шесть стадий силы – это мазки. Но их единый танец – это сам холст. Это не просто оплодотворяющая сила; это сила, порождающая саму возможность быть оплодотворенным.
Ключ, что я увидел на панцире черепахи, был не просто иероглифом. Это было понимание. Цянь не противоположен Инь. Он – её предвечный исток. И в этом его самая сокровенная тайна. Он движется, и в этом движении рождается мир.
Дева Ока: зикр, зеркало и шлифовщик линз
Amor Dei Intellectualis
Ordine Geometrico Demonstrata
– Вы что, шутите?
– Нет, вполне серьезно.
– Но разве такое возможно?..
Годы стерли пыль дорог Ферганской долины и Бухары, но память о зиёратгох (святых местах) осталась. Память о радениях суфиев, где сердце, замирая, внимало намекам Высшей Истины. Вспышки Света – и снова тьма. Молнии Откровения – и тишина. Приближение – и разлука. Единение – и изгнание. Опьянение Богом – и отрезвление собой. Забвение себя в поминании Аллаха – и забвение Аллаха в себе. Мгновенная смерть – и воскрешение. Завесы падали, и аль-гайб, сокровенное, приоткрывалось на мгновение, чтобы снова скрыться…
Когда-то шейх ордена Накшбандийа посвятил искателя в тайны хафи зикра – «тихого» поминания, где лишь сердце (калб) безмолвно взывает к Богу. Но знающий ведает: и у «громкого» зикра, джахр, есть свои глубины, свои врата. И вот последователи другого шейха, Юсуфа Хамадани, пригласили его на зикр джахр, что начался после аср намаза, предвечерней молитвы. Они говорили: в тихом зикре лишь сердце помнит, а в громком – и сердце, и тело, и язык сливаются в едином порыве. Этот зикр, говорили они, несет мистическое исцеление, подобное Таинству Елеосвящения у христиан.
Освященный елей… Он помнил его аромат. Благоухание иной природы, вдохнутое когда-то давно, оставившее след не в ноздрях, но в самой душе.
И вот начался зикр джахр. Круг движущихся тел, ритмичные выкрики Имен Аллаха. Движение ускоряется, переходит в кружение, в бег. Сердце стучит в такт Именам, тело становится молитвой. И тут – впервые! – он ощутил аромат. Не запах пота или пыли – аромат самих Божественных Имен. И слова древней Песни Песней вдруг обрели плоть, зазвучали в крови:
«εις ο σμην μύρων σου δραμούμεν» – «в запах миро Твоего побежим» (Песн. 1:3).
Бег в Аромат. Погружение в «глубину более неизъяснимую, нежели вся Святая Святых», как писал армянский поэт-мистик Григор Нарекаци.
И слова Пророка Мухаммада, мир ему, тоже раскрылись иначе: «В дольнем мире мне полюбились женщины и аромат, а молитва стала для меня зеницей ока».
Женщины… Аромат… Молитва – зеница ока…
Великий Шейх, Ибн аль-Араби, чьи «Геммы мудрости» когда-то открыли ему первые двери, помог бы и здесь. Но теперь искатель дерзнул идти дальше сам. Сначала пришло понимание: молитву нужно хранить «как зеницу ока» – «ως κόραν οφθαλμού» (Вт. 32:10). Как зеницу, что видит, предвидит – «вещую зеницу».
И тут греческий текст Септуагинты подбросил ключ, который мог бы показаться игрой слов, если бы не контекст мистического озарения. Зеница – κόρα. Но κόρα по-гречески – это и Дева.
Дева Ока. Κόρα οφθαλμού.
Не та ли это Вечная Дева, София, Премудрость Божия? Зеркало Троицы? Та, «в которой Бог созерцает Себя», та, которую Он «взял Себе в супруги», как учили христианские мистики? Та, в ком должно родиться вторично, как писал немецкий сапожник-визионер Якоб Бёме, различая в Еве и деву, и женщину?
Древнее предание гласит: женщина – мать, душа всего живого. А разум – возница души, ее око.
Эти мысли пришли позже, в тишине, когда вихрь зикра утих. А тогда, в кружении, было лишь чистое ощущение, бег в Аромат, растворение в Имени.
И лишь много позже, собирая осколки откровений, он понял: в самом средоточии Ока Разума, в его вещем зрачке, в его зенице (κόρα), он должен обрести Ее – Деву Ока. И умолить Ее чистейшей молитвой. Молитвой, которой научил его когда-то странный человек – еврей по имени Барух. Шлифовщик линз из Амстердама. Знаток законов оптики, геометрии страстей и таинственного сочетания Недремлющего Ока Божьего и зрачка человеческой души.
Молитва как шлифовка линзы разума. Чтобы в ее фокусе проявился неискаженный Образ. Образ Девы. Той, что смотрит на мир из глубины Божественного Ока и из глубины нашего собственного зрачка. Amor Dei Intellectualis – Интеллектуальная Любовь к Богу, доказанная строгим порядком геометрии и явленная в аромате мистического зикра.
Возможно ли это? Шлифовщик линз, кажется, знал ответ. Он доказал его – ordine geometrico. Оставалось лишь настроить фокус. И увидеть.
Танец Хлои
Воздух Лесбоса дрожал полуденным зноем, густым и пряным, как молодое вино. И вино это, дар Диониса, коснулось губ Хлои. Не просто напиток – жидкое пламя, текло оно по жилам, разжигая в невинной пастушке искры древнего, забытого восторга. Мир вокруг поплыл, обретая иные краски, иные ритмы. Священная роща нимф, где эхо помнило смех и слезы Сиринги, где сам Пан незримо касался ветвей своей косматой дланью, вдруг ожила голосами, которых прежде она не слышала.