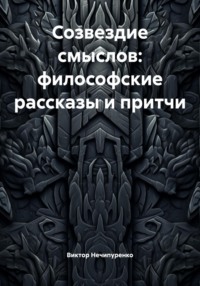Полная версия
Зеркала в бесконечность
Это был зов. Не Эрота нежного, шепчущего о поцелуях под оливой, но Эроса иного – стихийного, вакхического, того, что помнит растерзанного Загрея и неистовый пляс менад. И Хлоя, сама того не осознавая, ответила этому зову.
Сбросив легкую тунику, оставив лишь простую повязку, что скудно прикрывала бедра – знак ее лесной, пастушеской сути – она ступила на поляну, где лучи солнца прошивали листву золотыми иглами. Вино пело в крови, развязывая узлы стыдливости, освобождая тело для языка, древнейшего из всех – языка танца.
Сначала робко, словно пробуя почву, касаясь босыми ступнями теплой земли, она начала движение. Плечи дрогнули, руки взметнулись, подражая то ли полету птицы, то ли гибкости лозы, обвившей тирс незримого бога. А потом ритм захватил ее. Это был уже не танец, выученный у старика Филета, не игра в Пана и Сирингу, где смех заменял страсть. Это был чистый экстаз, прорвавшийся наружу.
Она кружилась, запрокинув голову, и темные волосы разметались, касаясь обнаженной спины. Повязка на бедрах трепетала, то скрывая, то открывая изгибы юного тела, ставшего вдруг воплощением самой Природы – той, что знала и невинность цветка, и ярость грозы. Движения ее были спонтанны, исступленны, но в этом хаосе проступала странная, дикая гармония. Она была и нимфой из пещеры, чьи каменные сестры застыли в вечном танце, и менадой, следующей за незримым Дионисом, и самой Сирингой – но не той, что обратилась в тростник от ужаса, а той, что нашла бы в преследовании Пана не страх, а пьянящую игру стихий.
Каждый изгиб ее тела был словом в орфическом гимне жизни. В ней смешались молоко невинности и вино познания, чистота Артемиды и пламя Вакха. Легкая эротика этого танца была не в наготе, но в откровении – в том, как пробужденная чувственность обретала форму в движении.
Она танцевала, и казалось, сама земля дышит с ней в унисон. Шелест листьев стал музыкой, солнечные блики – божественным прикосновением. В этом вакхическом порыве, где мистическое сливалось с телесным, Хлоя проходила свою инициацию. Не через страдания и похищения, но через добровольное, радостное растворение в стихии жизни, через танец, ставший ее личной иерофанией – явлением священного в красоте пробужденного тела.
И когда, запыхавшись, со смеющимся ртом и пылающими щеками, она упала на траву, мир вокруг уже не был прежним. Вино выветрилось, но остался след – знание о той глубине, что таится под покровом пастушеской простоты, о той силе Эроса, что способна превратить невинную игру в мистерию, а танец – в молитву самой Жизни.
Флейта Пана
Зеленый сумрак леса дрогнул, разорванный резким треском сучьев и испуганным вздохом. Нимфа, легкая, как дыхание ветерка меж изумрудных папоротников, была вырвана из своего воздушного танца косматой, необоримой силой.
Она рванулась, тонкие запястья в тисках грубых, пахнущих землей и мускусом пальцев. Но не ужас один сковал ее члены. Из глубин ее существа, из самых корней ее лесной души, поднималась иная волна – темная, горячая, неодолимая. Это была всеприродная страсть, разлитая в самом воздухе этого дикого уголка мира, страсть бога, отвергнутого сияющим Олимпом, но нашедшего свое царство здесь, в сокровенной плоти земли. Искры его божественного огня, не укрощенного нектаром и амброзией, но вскормленного соками трав и тайными ритмами земных недр, коснулись ее, и ее собственное тело, доселе знавшее лишь прохладу росы и нежность лунного света, вспыхнуло ответным пламенем, возжелав жгучих объятий пастушеского бога.
Он не пировал с Зевсом, не внимал речам Афины. Его пир – здесь, в густой тени вековых дубов, его собеседники – шелест листвы, рык зверя, журчание ручья. Он – воплощение тайных удовольствий земного мира, волшебного обаяния эроса, что поет свою обворожительную песнь не в залах Олимпа, а в сплетении корней, в соитии стихий, в буйном экстазе пляски, где каждый жест – символ «деревенской мудрости», где божественно-мистическое неотделимо от плотского, сексуального.
В его звериных, но мудрых глазах отражалась вся тайная жизнь Природы – Природы, вместившей в себя отвергнутое Божество, его неукротимые демиургические силы. Эти силы движут стихиями, слагают из хаоса узоры жизни, сплетают мириады существ в единый пульсирующий организм, где рождение и смерть сливаются в величайшем, непрерывном наслаждении. Эта энергия божественной, самонаслаждающейся жизни разлита во всем: она дрожит в каждом атоме пыли, твердеет в граните скал, струится соком в стволе дерева, ползет в змее, жужжит в насекомом, парит в крыле птицы. И вся эта мощь обретает свою зримую, тревожащую душу конфигурацию в Нем – Пане, пастушеском боге Всего, вечном ἄνθρωπος-τράγος, человеко-козле, символе неразрывной связи возвышенного и низменного.
И вот, он поднес к губам свою флейту, сирингу. Семь тростниковых трубочек разной длины, вещественный символ семи сил природы, семи планет древнего космоса, семи нот, слагающих всю мыслимую музыку мира. Это не просто инструмент – это демиургический жезл, ключ к первозданной сущности бытия. И полилась мелодия – нежная и грубая, тоскливая и ликующая. Мелодия животной похоти, что томится в каждом человеческом теле, но и мелодия мистического зова, заклинающая эту похоть, высвобождающая ее из узких рамок смертной плоти к великому единению со всей космической жизнью, с ее бесконечным, буйным празднеством порождения и умирания.
Звуки сиринги окутали нимфу, проникая глубже любых объятий. Ее сопротивление истаяло, растворилось в этой грустновеселой песне антропотрагической любви ко Всему. Она больше не была пленницей – она стала частью этой дикой священной пляски, частью леса, частью бога, частью той самой всеприродной страсти, что вспыхнула в ней неугасимым огнем. В руках Пана, падшего бога земных экстазов, она познавала не насилие, но откровение – откровение единства всего живого, пульсирующего в ритме его семиствольной флейты, в вечном танце жизни и смерти под сенью древнего леса.
Силоамский Сон: за Воротами Гермафродита
Говорят, в конце всех путей, за гранью яви и сна, там, где пражский Голем рассыпается прахом, а город теней тонет в тумане, стоят Ворота. Сияющие. Двустворчатые. Правая створка – женская, текучая, как лунный свет на воде. Левая – мужская, прямая, как луч солнца. Это Ворота Гермафродита, дитя Гермеса и Афродиты, Вестника и Любви. Символ изначального Единства, утраченного и вечно искомого.
А за Воротами – мраморный дом, похожий на храм. Вечный. И на его ступенях – двое. Атанасиус Пернат, вечный искатель, резчик камней, коснувшийся тайны. И к нему прислоненная – Мириам, его тень, его свет, его другая половина. Они – стражи порога, воплощение достигнутого Единства. А внизу, в тумане, остается город, его големическое существование, его бессонные сны.
Сны… Они – тоже врата.
Жил когда-то юноша, влюбленный так сильно, что реальность стала для него лишь бледной тенью двух снов. Ночь за ночью ему снилось одно из двух: либо он сам – это она, его возлюбленная, он чувствовал ее кожей, ее сердцем, ее трепетом. Либо – он видел себя в ее объятиях, тонул в ее взгляде, сливался с ней в невыразимом экстазе. Сон-превращение и сон-слияние. Они сменяли друг друга, пока земная жизнь юноши не истаяла как утренний туман.
Но сны не умерли. Они перешли к другому. Другой влюбленный юноша стал видеть их – ночь за ночью. Превращение. Слияние. Пока и его фитилек жизни не догорел.
Сны отправились дальше. К третьему. И снова – ночь за ночью. Превращение. Слияние. Но на этот раз что-то изменилось. То ли сила любви была иной, то ли время пришло. Сны стали сниться не только ему, но и ей, его возлюбленной. Она видела себя им. Она видела себя в его объятиях. Их сны переплелись, наложились друг на друга, как отражения в зеркалах, поставленных друг напротив друга.
И однажды, в глубине общей ночи, их сны слились в один. Единый Силоамский Сон – сон у купели исцеления, сон обретения целостности. Они больше не были двумя – мужчиной и женщиной, видящими друг друга или превращающимися друг в друга. Они стали Одним. Гермафродитом сновидения.
И в этом Сне они обрели вечность. Они стали теми, кто стоит на ступенях мраморного храма за сияющими Воротами. Атанасиус и Мириам. Мужское и Женское, слитые в едином сиянии.
Путь к этому Единству долог и парадоксален. Он требует смелости шагнуть за пределы привычной роли, примерить на себя чужую шкуру, признать в себе Иное. Древние шумеры знали об этом. Их богиня Инанна, Царица Небес, не боялась спускаться в преисподнюю и примерять на себя разные лики:
«Когда я сижу в пивной, я и женщина, и молодой буян.
Когда я присутствую при ссоре, я женщина, совершенный образ.
Когда я сижу у ворот таверны, я проститутка, знакомая с пенисом; приятель мужчины, подруга женщины».
Она – всё. Она вмещает в себя противоположности. Она – Гермафродит в своих проявлениях.
А жрица Инанны, Энхедуанна, первая поэтесса в истории человечества, описывала ритуал инициации, превращения девы в нечто большее, в существо, преодолевшее гендерные границы:
«Над головой девы
она делает молитвенный жест
затем, возложив руки на ее нос,
она провозглашает ее мужественной / женщиной
…она берет брошь,
скрепляющую одеяние женщины,
ломает тонкую серебряную иглу,
освящая сердце девы как мужское,
дает ей меч…»
Сломать иглу женского одеяния. Освятить сердце как мужское. Дать меч. Это не просто смена роли – это алхимическая трансформация. Это расщепление двери обыденного сознания, чтобы увидеть то, что скрыто внутри – единство мужского и женского, Анимуса и Анимы. Это обретение той целостности, что сияет за Воротами Гермафродита.
Возможно, каждый влюбленный – это Атанасиус Пернат, ищущий свою Мириам. Возможно, каждый сон о любви – это шаг к тем сияющим Воротам. И когда два сна сливаются в один Силоамский Сон, происходит чудо. Рождается Гермафродит. Не как физическое существо, но как состояние сознания. Состояние Единства.
И тогда город внизу, с его големами и тенями, перестает иметь значение. Остается лишь мраморный храм на вершине. И двое на его ступенях. Вечные. Единые. За Воротами Гермафродита. В сиянии Силоамского Сна.
Жемчужина рабби Шимона бар Йохая
Меджибож дрожал в знойном мареве лета. В тесном, сумрачном бейт-мидраше, где воздух был насыщен запахом старых книг и молитв, собрались хасиды. Их лица, обветренные дорогами и постами, выражали трепетное ожидание. Они пришли к светочу своему, Ребе Боруху, Буцина Кадиша – Святой Свече, чей свет проникал в самые сокровенные уголки Торы.
«Рабейну, – начал один, самый смелый, – пролей свет… Как рабби Шимон бар Йохай, да будет вечно сиять его память, вышел из пещеры? Мы смятены, но знаем – тебе открыт тайный смысл».
Ребе Борух, чей взгляд мог испепелить или исцелить, медленно обвел их своими пронзительными глазами. Уголки его губ дрогнули, и вдруг он рассмеялся – смехом, в котором слышались и горняя мудрость, и земная ирония.
«Смысл? – переспросил он, и в голосе его зазвенела сталь надменности. – А вы спросите сперва моего шута, Гершеле Острополера! Разрешит ли он мне, грешному, уделить вам хоть мгновение своего драгоценного времени?»
Из темного угла, кривляясь и подпрыгивая, выскочил Гершеле, шутовской колпак съехал набекрень.
«Давай, Ребе, давай! – прокричал он, передразнивая важность хасидов. – Повесели народ! Не мне же одному тут паясничать. Рассказывай свою майсу, свою сказочку!»
«Ну, раз сам ребе Гершеле соизволил, – Ребе Борух театрально развел руками, – так и быть, слушайте». Он выпрямился, и комната, казалось, затаила дыхание.
«Шел один мудрец через лес, – начал Ребе Борух тихо, словно вспоминая древний сон. – И увидел он у ручья деву невиданной красы, купающуюся в прозрачных водах. Свет исходил от нее, такой, что сам лес замер в восхищении. Мудрец, плененный ее совершенством, шагнул к ней… но она исчезла. Словно растаяла в солнечном луче. Он искал ее, звал, обегал все окрест – тщетно. Лишь у самой воды, там, где только что стояли ее ноги, он нашел жемчужину. Одну-единственную, но сияющую так, что затмевала полуденное солнце».
Ребе поднял палец, призывая к вниманию.
«Жемчужина сверкнула в его руках, и в ее дивном, глубоком свете, словно в крохотном зеркале вечности, мудрец разглядел образ той самой девы. И он понял: это не потерянная вещь, это – дар. И чем дольше он вглядывался в жемчужный лик, тем сильнее пленялся им. В свете этой жемчужины он увидел всю Вселенную, от края до края, и Трон Славы Святого, да будет Он благословен, и мириады птиц небесных, поющих Ему славу. И от тех птиц отделились две… две особые птицы… дабы принести живущим на земле весть о ней…»
Ребе Борух внезапно умолк. Его взгляд устремился куда-то вдаль, сквозь стены и время. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь сдавленным хихиканьем Гершеле.
«Рабейну, – подали голос хасиды, их лица выражали еще большее смятение, – мы запутались еще сильнее! Ведь в святом Зогаре ясно сказано: те две птицы слетали к рабби Шимону и его сыну Эльазару в пещеру. И когда возвращались, у одной в клюве была записка: „Сын Йохая вышел из пещеры!“ А ты говоришь… о вести про деву?»
Глаза Ребе Боруха вспыхнули гневом. Он топнул ногой так, что задрожали доски пола.
«Прочь! Глупцы! Слепые! – закричал он, и голос его загремел, как гром. – Вы хотите, чтобы я вышвырнул вас вон?! Если вы настолько слепы, что не видите за каждым словом рабби Шимона, за всем его сиянием – ту самую Прекрасную Деву?! Вон отсюда!»
Гершеле Острополер залился громким визгливым смехом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. «Уходите, уходите, глупцы! Слепые котята! Вон!» – кричал он, вторя гневу Ребе.
Но так же внезапно, как вспыхнул, гнев Ребе Боруха угас. Он опустил плечи, и голос его стал тихим, почти грустным.
«Если вашему сердцу, – проговорил он, глядя на растерянных хасидов, – не будет дарован сей жемчужный образ, вы никогда не узрите Ее – Прекрасную Деву рабби Шимона бар Йохая. Ее свет, Ее тайну. А тот, кому он дарован… о, тому сам рабби Шимон говорит из глубины веков: „Блажен мой удел, что ты увидел меня таким! Ибо если бы ты не видел меня таким, не был бы я таким!“ И такой человек видит, какую бесценную Жемчужину вынес Рашби из своего тринадцатилетнего пребывания в пещере. И тогда он сам вторит ему: „Блажен мой удел!..“ Ибо ему открываются тайные сады Торы и Зогара, скрытые за буквами и словами».
Хасиды, ободренные сменой тона, осмелели.
«Рабейну, ты не сказал о пещере…»
«Тот, кому дарована эта жемчужина, – медленно ответил Ребе Борух, и глаза его снова засияли внутренним светом, – найдет ее. В пещере. В пещере собственного сердца. Но и это еще не все, – добавил он загадочно. – Он должен выйти с нею из пещеры. Как отец и сын».
«Как отец и сын! Как отец и сын!» – подхватил Гершеле, снова заливаясь смехом и улюлюкая. – «Выходите, выходите из пещеры, глупцы! С жемчужиной! Как отец и сын! Ха-ха-ха!»
И его безумный смех еще долго эхом отдавался в затихшем бейт-мидраше, оставляя хасидов наедине с загадкой Прекрасной Девы, сияющей Жемчужины и тайной выхода из пещеры сердца.
Ночь с Santo Señor Яковом Франком
«…Да будут все деяния наши направлены, согласно Торе Ацилут,
только во имя Твое SS, дабы познать величие Твое…
что Ты наш Мессия, который жил в мире плотском,
упразднил Тору Брия
и взошел на место свое для искоренения всех миров…
Ты – Элохим, Шабтай Цви, в руке твоей, SS,
оставляю я дыхание и душу свою…»
(Из молитвы франкистов)
Ночь Песаха. Время исхода, время освобождения. Но не из Египта земного, а из темницы Творения, из тюрьмы Закона. На столе – не маца и горькие травы, а нечто иное. Перед ним, в мерцании свечей, лежит ОН – череп. Желтоватая кость, пустые глазницы, глядящие из безвременья. Череп SS – Santo Señor Якова Франка. Мессии Ничто. Анти-Мессии. Или, быть может, истинного Мессии для этого проклятого мира?
«Alas, poorYacob!» – Нет, Гамлет, это не про него. Эти слова – для тех, кто был, кто оставил след, кто связан отношениями. А Он, Santo Señor? Как сказал бы другой маг, Кроули, Он «пребывает вне всякого Отношения, даже с САМИМ СОБОЙ». Он – черная дыра в ткани бытия, точка сингулярности, где все законы отменяются.
Был ли он «сопутником бесконечного» Духа? Шут при дворе Святого Царя, Малка Каддиша? Или сам этот Царь, явившийся в грязи и пороке? Сказать о нем: «Как отвратителен моему воображению!»? Нет, это было бы слишком просто, слишком по-человечески.
Гегель, этот диалектический шаман, учил: «бытие духа есть кость». Череп – caput mortuum, мертвая голова для простого наблюдателя, видящего лишь «предметную вещность». Но для Разума, для Посвященного – это чаша. Чаша Грааля наоборот. Чаша, наполненная не кровью спасения, а эликсиром разрушения. Сосуд, хранящий эссенцию Того, кто пришел не исполнить Закон, но упразднить его. Уничтожить не только Тору Брия (Тору Мира Творения), но и сами миры, порожденные ею.
Все прежние мессии – лишь предтечи. Провозвестники грядущего разрушения, вестники конца времен. Но Ты, Santo Señor! Ты превзошел всех! Ты не просто возвестил – Ты воплотил Конец. Ты сам стал Разрушением, Нигилем, облекшимся в плоть и кровь. Ты явил миру не Свет, но ослепительную Тьму Айн Соф, изначального Ничто, предшествовавшего всякому творению. Твоя миссия – не спасение мира, а его искоренение. Возвращение всего сущего в благословенную Пустоту, из которой оно никогда не должно было выходить.
И нет никакой случайности в том, что твоя могила в Оффенбахе (о, ирония имени!) была разрушена. Что твой череп исчез. Ибо ты и при жизни был по ту сторону земных законов, по ту сторону тления. Ты – вечный беглец, вечный еретик, вечный разрушитель форм.
Но вот он здесь. Передо мной. В эту ночь Песаха. Череп SS. Молчаливый свидетель величайшей ереси.
И мне страшно. Страшно не от его вида, не от мыслей о смерти. Мне страшно представить иное. Что если он вдруг… зазвучит? Как дамару, барабан Шивы-Разрушителя, сделанный из двух черепов, звук которого творит и разрушает вселенные? Что если эта костяная чаша вдруг завибрирует, издав неслышный гимн Торы Ацилут – Торы Мира Эманаций, Торы Чистого Духа, предшествующей всякому Закону и всякому греху?
Что если пустые глазницы вдруг вспыхнут темным светом Айн Соф?
Что если беззубый рот раскроется, чтобы произнести Имя? Не Имя Творца, но Имя Разрушителя. Имя Того, кто есть Шабтай Цви и Яков Франк. Имя SS.
Мир держится на словах, на Законе, на хрупком порядке Творения. Но если зазвучит Череп SS – все рухнет. Не останется камня на камне от этой иллюзии, называемой бытием. Миры схлопнутся. Время исчезнет. Останется лишь Он – Santo Señor, парящий в сияющей Тьме Абсолюта, в том Ничто, которое было до начала и пребудет после конца.
Я смотрю в пустые глазницы черепа. И чувствую Его взгляд. Взгляд из Бездны. Он ждет. Ждет, когда последний верный произнесет молитву. Ждет, когда кто-то осмелится взять Его в руки, поднести к уху и услышать… тишину, что громче любого звука. Тишину разрушения. Тишину освобождения.
Песах. Исход. Но куда? Не в Землю Обетованную. А в Ничто. В объятия SS.
«…В руке твоей, SS, оставляю я дыхание и душу свою…»
Свечи оплывают. Ночь длится. Череп молчит.
Разговор с бароном Оффенбахом о дороге к Исаву
Зашел как-то разговор со старым другом. Другом весьма своеобразным – бароном Оффенбахом. В миру он был известен под другим именем, почти прозвищем: Яков Франк, «простак». Но простаком он не был. Скорее уж – зеркалом, отражавшим и искажавшим все лики веры и безверия.
Его считали Мессией. Не меньше. Реинкарнацией Шабтая Цви, того самого Царя Иудейского, наместника Бога, чье падение в ислам потрясло основы еврейского мира. Франк, говорили его последователи, унаследовал душу Мессии, а значит – и его миссию.
А миссия эта была страшна и парадоксальна. Не просто спасти «погибших овец дома Израилева», как Ешуа га-Ноцри. О нет, Шабтай и Яков замахнулись на большее – на спасение всех падших душ. И не только евреев. Их путь лежал в самую бездну Шеола, в царство клипот, нечистых оболочек, где томились плененные искорки Божественного Света. Без этих искр – нет окончательной победы, нет Тикун Олам, исправления мира.
Но как войти во тьму, не став ее частью? Similia similibus curantur – подобное лечится подобным. Чтобы сойти к таниним, змеям и драконам клипотических миров, Мессия должен облачиться в их шкуру. Принять их форму. Стать одним из них. «Мудрый, яко змий» – это не метафора. Это прямое указание. Он должен стать Нахаш га-Кадош – Святым Змием. Тем, кто несет не яд смерти, но яд Мудрости, способный исцелить даже самые падшие души, самые глубоко застрявшие искры.
Ради этой страшной миссии они шли на немыслимые жертвы. Отрекались от своей веры, от своей идентичности. Не искренне, конечно, – так же, как мараны, тайные иудеи Испании, внешне принимавшие христианство. Шабтай Цви стал мусульманином Мехметом Эфенди. Его преемник Барухия Руссо – Осман-бабой. Яков Франк, пройдя через ислам, принял католицизм и стал Иосифом.
Жертвенный путь? Или хитроумный маскарад? Франк называл это «дорогой к Исаву». В раввинистической традиции Исав – символ Эдома, а позже – христианства. Но для Франка это было нечто большее. Это был путь в чужое, во враждебное, путь через отрицание Закона. Его принцип шокировал: «Нарушение предписаний Торы – это и есть их выполнение». Особенно это касалось запретных связей, сексуальных табу. Он погружался в «грех» не ради удовольствия, а ради… спасения. Чтобы извлечь искры святости из самой грязи.
Он ссылался на Тору, на путешествие праотца Якова к брату Исаву в Сеир (Бытие 33:14): «…а я поведу осторожно стопою делания, которое предо мною, и стопою рожденных, доколе не войду к господину моему в Сеир». «Стопою делания»… «Стопою рожденных»… Франк видел здесь намек на свои тайные практики, на путь через плоть, через рождение «новых душ» из смешения запретного.
И еще один стих, из Исайи (21:11), стал ключом к его доктрине:
משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה־מלילה שמר מה־מליל
Синодальный перевод: «Пророчество о Думе. – Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи?»
Но Франк играл значениями. Маса (משא) – не только «пророчество» или «речение», но и «тягота», «бремя». Дума (דומה) – не только город или область (Идумея/Эдом), но и «молчание», «безмолвие», и даже – «преисподняя», «страна безмолвия».
И стих обретал новые, зловещие смыслы:
«Речение о Думе/Эдоме».
«Бремя Безмолвия».
«Бремя Молчания».
И даже – «Бремя Исава».
И вот, глядя в глаза своему странному другу, барону Оффенбаху, в чьих глубинах таился то ли Мессия, то ли величайший обманщик, я решился спросить:
– Тяжко ли было твое бремя, Яков? Бремя Безмолвия? Бремя Исава?
Он усмехнулся – печально, устало, но с той же неистребимой искрой в глазах, что сводила с ума и притягивала тысячи.
– А ты как думаешь? – ответил он тихо. – Это Ешуа га-Ноцри мог сказать: «Бремя Мое легко». Он ведь был послан только к заблудшим овцам Своего дома. Его миссия была… локальной. А я? Я был послан к Исаву. К Исмаилу. Ко всем народам, сидящим во тьме, в Дума, в Стране Безмолвия. Легко ли вытащить их оттуда? Легко ли Святому Змию проползти через все круги Шеола, собирая искорки света, не обжегшись самому адским пламенем?
Он помолчал, глядя куда-то сквозь меня, сквозь стены комнаты, в ту бесконечную ночь, о которой вопрошали с Сеира.
– А ведь еще вся ночь впереди, друг мой… Вся ночь… Сторож! Сколько еще ночи?..
И стало понятно: его миссия – вывести души из Дума, Земли Безмолвия, и привести их в Эрец га-Хаим, Землю Жизни. Ту, что Зогар называет Олам га-Ба (Грядущий Мир), Олам га-Нешамот (Мир Душ), Олам га-Нехамот (Мир Утешений). Но путь туда лежит через самую густую Тьму, через бремя молчания и тайных деяний. И несет это бремя он – вечный изгнанник, самозваный Мессия, Святой Змий Яков Франк, барон Оффенбах. И ночь его миссии еще далека от рассвета.
Мессианские интермеццо простака Якова Франка
Есть имена, которые обжигают язык. Яков Франк – одно из них. Простак из Подолии, ставший бароном Оффенбахом. Самозванец, ставший Мессией. Или Мессия, притворившийся самозванцем? С ним никогда нельзя быть уверенным.