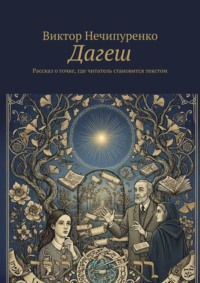Полная версия
Кавказская йога графа Валевского. Опыт инициации
Терять мне было нечего – я уже потерял всё, кроме этой пустоты, которая теперь была моим единственным спутником.
Я взял книгу. Пальцы перелистнули страницу. «Первый МАСТЕР-АРКАН (упражнение)». Бред. Всё тот же бред, написанный с маниакальной уверенностью. «Сядьте на стул – спина, шея прямые, голова поднята, подбородок слегка втянут, взгляд направлен перед собой. Глаза должны быть зафиксированы на Солнце или на фокусной Точке (если используется Точка, она должна находиться на уровне глаз, в 1—2 метрах от вас, на вертикальной стене или подставке). Запомните уровни (горизонтали), вертикали (перпендикуляры), диагонали, углы, взаимное расположение».
Я сел на край кровати, не на стул: стул казался слишком формальным, слишком чужим. Закрыл глаза. И тут же внутренний экран заполнился образами, как будто на бумагу пролились чернила и засохли прихотливыми пятнами: серое лицо женщины без черт, пустые глаза старика за окном, кучка мертвых листьев во дворе. Они вцепились в меня как репьи, как шипы, впившиеся в кожу. Я попытался отогнать их, но они упрямо возвращались, как тени, от которых невозможно убежать.
Я попробовал сосредоточиться на дыхании. Это было почти невозможно, всё равно что пытаться расслышать шепот посреди сталелитейного завода. Мой ужас кричал слишком громко, заглушая всё. Но я сидел. Не из упорства, не из веры, просто потому, что не знал, что еще делать. Я сидел, и волны страха накатывали как прибой, а я, как идиот, пытался следить, как воздух щекочет ноздри. Минуту. Пять. Десять. Мое тело сопротивлялось, легкие сжимались, словно отказываясь подчиняться. Но я продолжал, упрямый, как камень, который не сдвинет поток.
И вдруг на какую-то долю секунды это случилось. Шум в голове стих. Образы растворились как дым на ветру. Осталось только это – тонкая прохладная струйка воздуха, входящая и выходящая, легкая, как прикосновение пера. Ничего больше. Это длилось, может быть, два вдоха, два выдоха. А потом ад вернулся – еще громче, еще яростнее, словно мстя за этот краткий миг предательства. Но я успел. Я поймал эту секунду тишины. Это не было ни счастьем, ни покоем, – просто отсутствием боли. И это было больше, чем всё, что я испытал за последний год, за все эти месяцы, проведенные в тени собственного страха.
Мне нужно было выйти. Не из желания, а из необходимости, из какой-то бытовой, почти нелепой потребности. Нужно было купить хлеба. Этот простой земной предлог показался мне спасательным кругом, брошенным в море пустоты. Я надел пальто, завязал шнурки – механически, как машина, выполняющая программу, – и шагнул на улицу.
Улица была прежней. Холодной, равнодушной, с серыми фасадами и торопливыми тенями прохожих. Но я смотрел на нее иначе. Я шел, пытаясь по дурацкой, почти детской привычке подражать тому, что делал в комнате, – наблюдать, не оценивая, не наделяя смыслом. Просто видеть.
Вот прачечная самообслуживания. Я проходил мимо нее сотни раз не замечая, как не замечаешь трещин на асфальте. Сегодня я остановился. За стеклянной стеной, в мутном, пропитанном щелочью свете, двигались люди. Нет, не двигались – застыли, как жрецы перед древним алтарем. Они стояли перед вращающимися барабанами стиральных машин, глядя, как их вещи – рубашки, белье, обрывки их жизней – крутятся, бьются о стекло, растворяются в мыльной пене. Их лица были пустыми, но в этой пустоте было что-то ритуальное, почти священное.
Среди них выделялся мужчина. Худой, сгорбленный, в старом пальто, которое висело на нем как на вешалке. Он не смотрел на машину. Он стоял у большого стола, складывая белье – сухое, еще теплое, пахнущее чистотой. И я видел, как он это делает. Это был ритуал, почти молитва. Он брал маленькую детскую рубашонку, расправлял ее с осторожностью, словно боясь порвать, выравнивал каждый миллиметр, складывал рукава, затем еще раз пополам. Его движения были медленными, сосредоточенными, полными какой-то невыразимой нежности, будто он не просто складывал ткань, а касался чего-то живого, хрупкого. Он не думал. Он не оценивал. Он просто складывал рубашку, и в этом простом действии было спасение – крошечный островок порядка в бушующем океане хаоса.
Раньше я увидел бы в этом лишь еще одно проявление безысходности: человека, сведенного к механической функции, к складыванию тряпок. Но сегодня я увидел другое. Я увидел усилие. Я увидел его отчаянную, почти неосознанную попытку удержать мир от распада, создать что-то, что не исчезнет в пустоте. Я узнал в его жесте свое собственное нелепое упражнение с дыханием – тот же абсурдный, но упрямый способ продержаться еще пять минут.
Я купил хлеб и пошел обратно. Мир не стал лучше. Он был всё так же враждебен, холоден, равнодушен. Но что-то изменилось во мне самом. Пустота внутри осталась, но теперь в ней было на что опереться: на память о секунде тишины, на образ человека, складывающего детскую рубашку с такой тщательностью, будто от этого зависела его жизнь.
Вернувшись в комнату, я не лег на кровать. Я сел за стол. Положил перед собой буханку хлеба, еще теплую, пахнущую дрожжами и домом, которого у меня больше нет. Рядом лежала книга – как вызов, как насмешка, как заноза, которую я не мог ни вытащить, ни игнорировать.
И я подумал: а что там дальше? Впервые за долгое время я не боялся ответа. Впервые я хотел его услышать.
Глава 5
Дни потекли иначе. Не лучше, не легче, просто иначе. Я больше не лежал, ожидая, когда потолок окончательно обрушится на меня, похоронив под своим серым весом. Я стал экспериментатором в лаборатории собственного распада, одержимым ученым, у которого есть лишь один случайный результат: тот судорожный выдох, та секунда звенящей пустоты. И я с маниакальным упорством пытался его повторить, словно алхимик, ищущий формулу золота в груде пепла.
Это была жалкая комедия. Я вставал посреди комнаты, пытался согнуться, напрячь мышцы, вытолкнуть из себя воздух с той же силой, с тем же отчаянием. Но ничего не выходило. Мой выдох был лишь сиплым бессильным звуком, как хрип умирающего прибора. Тело помнило тот спазм, но отказывалось подчиняться моей воле. Оно знало больше, чем я. Воля была самым нелепым, самым бесполезным инструментом – шумом, от которого я пытался избавиться. Чем сильнее я старался, тем дальше уходила цель, как тень, которую невозможно поймать: каждое движение лишь отбрасывало ее за пределы досягаемости.
В очередной раз провалившись, я в изнеможении надел пальто и вышел. Если ответ не найти внутри, может, он ждет снаружи. Я больше не бродил бесцельно – я искал. Я стал охотником за знаками, шпионом в стане жизни, крадущимся по ее закоулкам, чтобы разгадать ее тайные механизмы, подглядеть, как она дышит, когда никто не смотрит.
Я забрел на площадь, где шумел уличный рынок. Воздух был густым, удушливым, пропитанным запахами – острыми специями, сырым мясом, гниющими овощами, приторными дешевыми духами. Продавцы выкрикивали цены, покупатели торговались, их голоса сливались в какофонию, грубую, крикливую, бесстыдно живую. Раньше я бы бежал от этого шума, от этой жизни, которая казалась мне насмешкой над моим распадом. Сегодня я заставил себя остаться. Прислонился к облупленной стене и стал смотреть, словно шпион, пытающийся расшифровать чужой код.
И я увидел руки. Руки мясника с короткими, обрубленными ногтями, белыми, как кости, ловко, без единого лишнего движения рубившие тушу. Они знали свою работу лучше, чем его голова, лучше, чем его усталые глаза. Руки старой торговки зеленью, морщинистые, как корни старого дуба, перебирали пучки петрушки с такой скоростью, что пальцы сливались в движении, как крылья насекомого. Руки карманника, легкие, порхающие, как бабочки, скользнувшие в сумку зеваки с грацией хищника. Все эти руки жили своей отдельной жизнью – точной, инстинктивной, совершенной. В них не было воли, не было раздумий. В них была чистая, незамутненная функция, как в механизме, который не знает, зачем он работает, но работает безупречно.
Вдруг толпа впереди всколыхнулась, раздались крики. Люди расступились, образовав неровный круг, как волны, разошедшиеся от брошенного камня. Я подошел ближе. На грязном асфальте площади лежал человек, бившийся в припадке. Это было дикое зрелище. Его тело жило своей, страшной, неподвластной рассудку жизнью. Руки и ноги дергались с механической, почти сверхъестественной силой, голова моталась из стороны в сторону, ударяясь о камни с глухим тошнотворным звуком. Глаза закатились, изо рта текла пена, белая, как мыло. Он не страдал – его просто не было. Была лишь эта взбесившаяся плоть, этот мятеж материи, вырвавшейся из-под контроля. Вокруг стояли люди, их лица были пустыми, но не от ужаса или сострадания. В их глазах – и в моих – горело первобытное любопытство, такое же, как то, что заставляет ребенка разглядывать раздавленное насекомое: интерес к изнанке жизни, к тому, как природа вдруг показывает свое истинное лицо – слепое, безжалостное, до-человеческое.
Через несколько минут подъехала карета с красным крестом. Двое санитаров в серых формах с той же деловитой точностью, что у мясника за прилавком, скрутили бьющееся тело, вкатили укол. Тело обмякло, как марионетка с перерезанными нитями. Его уложили на носилки и унесли. Толпа разошлась, на асфальте осталась лишь темная липкая лужа, а у меня – ощущение метафизического стыда, который нельзя ни смыть, ни забыть.
Я пошел прочь, но теперь я знал. То, что случилось со мной в комнате, и то, что произошло с этим человеком на площади, было одного порядка. Та же сила – слепая, до-человеческая, кипящая под тонкой пленкой разума, воли, нашего «я». У него она вырвалась наружу, разрушив его, как буря, сорвавшая крышу. Во мне она лишь на секунду приоткрыла дверь, показав пустоту за ней. Это не была «космическая энергия» из дурацких книг. Это была жизнь – сырая, безличная, как зверь, запертый в клетке нашего тела. И наш разум, наша воля – лишь хрупкая пленка на поверхности этого бурлящего океана. Иногда она рвется, и океан выплескивается наружу.
Я вернулся в свою комнату, но теперь был спокоен – не умиротворен, а спокоен, как после долгой бури, когда воздух становится прозрачным и холодным. Я сел за стол. Мой взгляд упал на книгу. Она лежала в углу, как забытый артефакт, как ключ к двери, которой, возможно, и не существует.
И вдруг я понял, чего я от нее хочу. Не спасения. Не просветления. Не ответов. Я хочу слов. Мой язык, язык моего мира, был беспомощен перед тем, что я видел и чувствовал. Он мог описать отчаяние, страх, боль, но не мог описать ту пустоту, ту силу, что ворвалась в меня в комнате и билась в теле человека на площади. Он был слишком слаб, слишком привязан к знакомым вещам – к стенам, к потолку, к хлебу.
Может быть, в этой нелепой книге с ее чужими, почти смехотворными словами есть другой язык? Не для счастливых и здоровых, не для тех, кто верит в гармонию и чакры, а для таких, как я, – провалившихся в изнанку мира, в его темную, необъяснимую сердцевину. Может, это не инструкция к спасению, а карта местности, где я оказался? Карта не для выхода, а для понимания.
Я не собирался верить. Я собирался понять. Я взял книгу, открыл ее на первой странице и начал читать. Не как инструкцию, не как руководство к действию. Как словарь. Как попытку назвать то, что не имеет имени.
Глава 6
Я начал искать. Как умирающий от жажды ищет воду в пустыне, я искал книги – не из праздного любопытства, не ради философских построений, а из отчаянной потребности в карте, в чертеже той темной неизведанной территории, куда меня выбросило. Я прочесывал букинистические лавки, рылся в пыльных коробках на блошиных рынках, где пахло старой бумагой и забытой надеждой. Я стал тенью в залах публичной библиотеки, заказывая все, где мелькали слова «йога», «тантра», «медитация», как одержимый, ищущий ключ к шифру, которого не понимает.
Большинство книг были бесполезны. Сентиментальная патока о любви ко всему сущему, туманные рассуждения о гармонии и свете, написанные людьми, которые, похоже, никогда не заглядывали в тот колодец, на дне которого я оказался. Они описывали фасад здания, яркий, украшенный цветами, не подозревая, что в его подвале бурлит первобытный хаос. Их слова скользили по поверхности как масло по воде, не касаясь глубины.
Но иногда среди этой словесной шелухи я находил зерна. Сухие технические описания, лишенные эмоций и метафизики. Просто инструкции: «Сядьте так-то. Дышите так-то. Сократите эту мышцу. Задержите дыхание. Повторите N раз». Это был язык инженера, а не поэта: точный, функциональный, как чертеж механизма. Я вцепился в него, как утопающий в обломок корабля. Это был язык, который я мог понять, язык, который не обещал спасения, но предлагал порядок.
Я знал, что это опасно. В каждой книге как заклинание повторялась одна и та же фраза: «Не практикуйте без руководства учителя». Но где найти учителя в этом каменном мешке, в этом городе, где люди избегают смотреть друг другу в глаза, словно боятся увидеть в них собственное отражение? Книги твердили: «Когда ученик готов, учитель появляется». Это не успокаивало. Я не был готов. Я был в отчаянии, в шаге от пропасти, и мои поиски были не подготовкой, а борьбой за выживание.
Я начал пробовать. Осторожно, как сапер, ступающий по минному полю. Начальные асаны, которые встречались повсюду, дались легко. Мое тело, измученное бездействием, оказалось неожиданно податливым, как глина, ждавшая рук мастера. Но это было не то. Это была лишь гимнастика – механика движений, не затрагивающая той глубины, которую я искал. Дыхательные упражнения казались ближе к цели, но здесь начиналась зона риска. Я не видел связи между теорией и практикой. Я был слепцом, нашедшим чертеж сложного механизма, но не знающим, какая деталь за что отвечает. Я пробовал бессистемно, прислушиваясь к каждому сигналу тела – малейшая боль в сердце, легкое головокружение – и сразу останавливался, как будто боялся взорвать себя.
Моя комната превратилась в лабораторию. Мое тело стало объектом исследования, подопытным образцом, который я препарировал с холодной, почти научной отстраненностью. Я завел дневник, где записывал с маниакальной точностью: «Сегодня. Семь утра. Поза лотоса. Пять минут. Дыхание 1:4:2. После десятого цикла – легкая тошнота, пульсация в висках. Прекратил». Это была странная, отчужденная работа. Я не ждал просветления, не искал счастья. Моя цель была проще и суровее – контроль. Если я не могу управлять миром снаружи, с его хаосом и равнодушием, то, быть может, я смогу обуздать маленький мятежный мир внутри меня.
В одной из книг, которую я выменял у старьевщика на последние деньги, я нашел описание очистительных практик. Это было нечто иное, далекое от благостных картинок гибких людей на фоне заката. Это напоминало инструкцию водопроводчика по прочистке засорившихся труб – грубую, функциональную, без прикрас. Дхаути – очищение желудка с помощью ткани. Нети – промывание носовых пазух шнурком. Я читал и меня охватывало смешанное чувство отвращения и болезненного интереса. Это была та самая изнанка, та сырая, клокочущая тьма тела, которую цивилизованный мир прячет за фасадом приличий. Йоги, оказывается, не боялись заглянуть в нее – в эту влажную биологическую реальность, полную слизи, желчи, газов. Они работали с материей, с той самой материей, которая так страшно взбунтовалась на площади в теле того несчастного.
Именно это меня и привлекло. Они не говорили о душе, о свете, о гармонии. Они говорили о теле – о его грубой, неподатливой механике. Они смотрели на человека не как на ангела, а как на машину, которая может выйти из строя, но может быть и отремонтирована. И я решился.
Каждый вечер, заперев дверь, я пытался освоить кхечари-мудру – растягивание языка. Это было нелепо, унизительно, почти абсурдно. Я стоял перед мутным зеркалом, высовывал язык и тянул его куском ткани, чувствуя себя то ли идиотом, то ли обезьяной, пародирующей человека. Мышцы болели, во рту скапливалась слюна, а я продолжал – день за днем, с упрямством маньяка. Потому что в этом бессмысленном действии был метод. Была система. Была альтернатива хаосу, который я видел на площади, в глазах старика, в собственной пустоте.
Часто, когда я занимался этими странными практиками или пытался выполнить очередное дыхательное упражнение, за стеной начиналась жизнь. Соседи включали музыку, смеялись, двигали мебель, их голоса вплетались в ночь, как нити в чужую ткань. Их мир – мир нормальных, здоровых людей – казался мне таким же далеким, как жизнь на другой планете. Они жили, любили, спорили, а я разбирал себя на части, как сломанные часы, в надежде понять, как они работают, почему они остановились.
Я не ждал Гуру. Я не верил в чудеса. Но в тишине моей комнаты, среди пыльных книг и их странных, почти медицинских инструкций, я чувствовал, что я не один. Со мной были они – безымянные авторы этих текстов, люди, которые века назад прошли по тому же темному коридору, где я оказался. Они оставили на его стенах свои знаки – сухие, технические, как формулы. Они не обещали света в конце пути, но они указывали направление.
Я не знал, куда ведет этот путь. Но впервые за долгое время это был путь, а не бесцельное кружение в аду. Я шел по нему осторожно, шаг за шагом, с дневником в одной руке и книгой в другой, как путник, который не знает, куда идет, но знает, что стоять на месте нельзя.
Глава 7
Время утратило свою линейность. Оно больше не делилось на дни, недели, часы. Оно стало цикличным, дробилось на вдохи и выдохи, на миллиметры, на которые растягивался мой язык, на сокращения мышц живота, которые я учился чувствовать. Моя жизнь, прежде размытое пятно ужаса, обрела структуру – странную, уродливую, но структуру. Она была как чертеж на обрывке бумаги: некрасивый, но точный, дающий надежду, что из хаоса можно построить нечто устойчивое.
В книгах я вычитал про падмасану, позу лотоса. Говорилось, что это основа всех асан, краеугольный камень, без которого дальнейшая работа невозможна. Я попробовал. Мои суставы, привыкшие к стульям и диванам, взвыли от боли как ржавые шестерни, которые заставили крутиться после десятилетий неподвижности. Попытка закинуть одну ногу на бедро другой была пыткой, настоящей и безжалостной. Но я продолжал. Каждый день я садился на холодный пол, стиснув зубы, и пытался сложить свое тело в эту невозможную, почти мистическую фигуру. Боль была осязаемой, физической, понятной, не то что липкий, бесформенный страх, который годами жил во мне, как паразит. Боль можно было измерить, за ней можно было наблюдать, как за пламенем в очаге. Я не боролся с ней. Я сидел в ней, как в огне, и ждал, когда она перегорит, оставив после себя лишь пепел и тишину.
В одной из книг, пожелтевшей и пахнущей плесенью, я нашел подробное, почти анатомическое описание уддияны и наули – брюшных манипуляций. «Встаньте, слегка согнув ноги. Выдохните весь воздух. Втяните живот под ребра, пока пупок не коснется позвоночника. Это уддияна. Затем, изолировав прямые мышцы живота, вращайте ими, как волной. Это наули». Я читал и видел не слова, а чертеж механизма – сухой, точный, как инструкция инженера. Первые попытки были смехотворны. Мышцы, о существовании которых я даже не подозревал, отказывались повиноваться, как спящие звери, которых я пытался разбудить. Но день за днем с упрямством маньяка я учился находить их, эти глубокие, скрытые пласты плоти, и заставлять их двигаться. Это было как научиться шевелить ушами – бессмысленное, но завораживающее умение, открывающее тайну собственного тела.
По вечерам, когда город за окном зажигал свои холодные огни, я стоял посреди комнаты, полуголый, согнувшись, и смотрел, как по моему впалому животу перекатывается мышечный вал. Это было гипнотическое зрелище, почти пугающее. Я был одновременно оператором и машиной, механиком и двигателем. В этом движении не было ничего человеческого – только чистая биомеханика, сырая, до-человеческая жизнь, которая пульсировала под кожей. Я чувствовал себя не человеком, а странным существом, заглянувшим под собственный капот и обнаружившим там сложный, непонятный механизм, работающий по законам, о которых я ничего не знал.
Я всё реже выходил на улицу. Мир людей стал мне неинтересен – их разговоры, заботы, радости и печали казались суетой муравьев, копошащихся в своем муравейнике. Я был занят делом поважнее. Я исследовал свою вселенную – мир сухожилий, нервных окончаний, потоков дыхания, которые текли во мне, как подземные реки. Моя комната стала лабораторией, а я – алхимиком, ищущим не золото, а порядок в хаосе собственного тела.
Но когда я всё же выходил, я видел мир по-новому. Видел не людей, а тела – машины, живущие отдельной, бессознательной жизнью. Вот идет женщина, толкая коляску. Я не замечал ее лица, но видел, как напряжены мышцы ее спины, как неправильно она ставит стопу, как сжата ее диафрагма, словно в тисках хронического стресса. Вот сидит в кафе мужчина, листая газету. Я не видел его глаз, но видел его живот – мягкий, расслабленный, полный застойных явлений, о которых он даже не подозревал. Окружающий мир стал для меня огромным неисправным механизмом. Все эти люди были поломаны, но не знали об этом. Они пытались починить свою жизнь, меняя работу, жен, машины, не понимая, что поломка глубже – в их дыхании, в их телах, в самой их природе.
Однажды ночью я не мог уснуть. Не от страха, а от странного холодного возбуждения, которое пульсировало в висках, как ток. Я встал и подошел к окну. Внизу, под тусклым светом фонаря, стояла пара. Они обнимались, их силуэты дрожали в холодном воздухе. Раньше я бы почувствовал укол зависти, тоски, возбуждения от их близости. Теперь я не чувствовал ничего. Я смотрел на них как энтомолог на двух спаривающихся жуков. Я видел, как напряжена его рука на ее талии, как ее голова откинута назад, обнажая уязвимую линию шеи. Я видел их дыхание – сбивчивое, поверхностное, как у животных, загнанных в ловушку. Их тела, подчиняясь древнему инстинкту, искали друг в друге забвения, короткого облегчения от ужаса отдельного существования. Но я знал, что это не сработает. Через час они будут лежать в своих постелях, каждый в своем одиночестве, слушая стук своего сердца.
Я отвернулся от окна. Иллюзии больше не работали – ни иллюзия любви, ни иллюзия нормальной жизни. Осталась только эта комната, это тело, эта странная, сухая, безжалостная работа. Я сел на пол, сложил ноги в несовершенную болезненную падмасану. Закрыл глаза. Я не молился, не медитировал. Я просто слушал. Слушал, как работает машина – моя машина, с ее скрипами, ритмами, скрытыми потоками. И впервые в моей голове возникла мысль, холодная и ясная: «Если эту машину можно разобрать, значит, ее можно и собрать. Но по-другому». Я встал, подошел к столу, где лежала книга – Кавказская йога. Она больше не была чужой. Она была частью этой лаборатории, частью этого пути. Я открыл ее, но не стал читать. Я просто держал ее в руках, чувствуя шершавую обложку, как якорь, удерживающий меня в этом мире. Я не искал ответов. Я искал инструменты. И я знал, что найду их, – не в книгах, не в позах, не в дыхании, а в том, что они открывали: в возможности перестроить себя, шаг за шагом, как инженер, собирающий новый механизм из старых сломанных деталей.
Глава 8
Мысль о том, что машину можно собрать по-другому, не принесла радости. Она легла на плечи тяжелым грузом, огромной, почти невыполнимой задачей. Я был инженером-самоучкой, запертым в тесной мастерской с уникальным, капризным, почти полностью разрушенным механизмом – самим собой. У меня не было ни чертежей, ни инструментов, кроме разрозненных пыльных книг, которые я собирал, как обломки потерпевшего крушение корабля. Но я знал: если я не начну собирать, этот механизм развалится окончательно, и я исчезну вместе с ним.
Я взялся за самую опасную, самую нелепую из описанных практик — ширшасану, стойку на голове. В книгах ее называли «королевой асан», утверждая, что она обращает вспять потоки в теле, омолаживает мозг, меняет саму химию сознания. Это звучало как шарлатанство, как зазывная речь торговца змеиным маслом, обещающего исцеление от всех бед. Но именно эта абсурдность, эта радикальная противоположность всему, что делает нормальный здравомыслящий человек, и притягивала меня. Если я хотел найти ключ к своей изнанке, он мог быть именно в этом – в действии, которое переворачивает мир.
Первые попытки были катастрофой. Я расстилал на полу свое единственное выцветшее одеяло, становился на колени, сцеплял пальцы в замок, упирался макушкой в их основание и пытался оторвать ноги от пола. Тело, привыкшее к земному притяжению, бунтовало, как загнанный зверь. Кровь приливала к голове, заливая виски тяжелым, горячим гулом. Мир переворачивался, вестибулярный аппарат выключался, комната плыла, как корабль в шторм. Я заваливался набок, ударялся о край стола или о стул, тяжело дыша, падал обратно на пол, словно жук, которого перевернули на спину, отчаянно дрыгающий лапками в попытках вернуть себе равновесие.