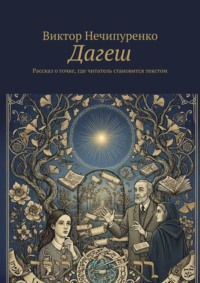Полная версия
Кавказская йога графа Валевского. Опыт инициации
Сегодня я пытался написать письмо. Единственному человеку, который, быть может, еще ждет от меня вестей. Я вывел на листе его имя – и замер. Что я мог ему сказать? Что я меняюсь? Но если я меняюсь, я уже не тот, кого он знал. А если я не тот, значит, мы друг другу чужие. Чужим людям, тем, кто не знает меня, я писать не могу, их лица расплываются в моем воображении, как отражения в мутной воде. Лист, скомканный в кулаке, издал хруст, который в этой выхолощенной тишине прозвучал как отчаянный крик, протест против всепоглощающей пустоты. Я бросил его в угол – и комната снова замолчала, будто осуждая мою слабость.
Говорил ли я? Я учусь умирать. Да, начинаю, робко, неумело. Пока выходит плохо, но я стараюсь. Это не громкие слова, не театральный жест, – это тихое осознание, которое растет во мне, как тень в сумерках. Я учусь замечать смерть в мелочах, в тех деталях, которые раньше ускользали от моего внимания. В моей родной стране вещи умирали с достоинством, громко, почти торжественно. Старый дедов самовар, покрытый патиной, словно благородным загаром, служил годами. Его чинили, паяли, он кряхтел, как старик, но продолжал кипеть, храня в своих медных боках память о тысячах семейных вечеров, о смехе, спорах, о тепле рук, касавшихся его ручек. Он умирал медленно, на покое, как верный слуга, заслуживший отдых. Здесь же вещи не умирают – они просто перестают работать. Вчерашний тостер, сияющий хромом, сегодня молчит. Его не чинят, не вдыхают в него новую жизнь, – его выбрасывают в специальный контейнер, словно ненужный мусор. Смерть приходит в картонной коробке, безупречно выполненная, но чужая. Это смерть модели BX-700 с двухлетней гарантией: без морщин, без шрамов, без лица.
Желание умереть своей смертью бывает всё реже, словно редкий гость, которого уже не ждешь. Еще немного, и оно исчезнет совсем, станет такой же диковинкой, как собственная жизнь. Всё уже приготовлено, всё решено за тебя. Ты приходишь в мир, и для тебя уже готов номер в отеле жизни: остается лишь вселиться, занять свое место, следовать инструкциям. Тебя принуждают уйти – и снова никаких усилий. Ты умираешь той смертью, которая положена твоей поломке, твоей неисправности. И больному, как говорится, нечего в этом менять. Всё отлажено, всё предусмотрено, всё стерильно.
Когда я думаю о доме, где никого не осталось, я вспоминаю, что прежде всё было иначе. Там знали, что смерть – это не внешнее событие, а часть тебя, как косточка внутри плода. Дети несли в себе маленькую смерть, взрослые – большую, и это знание придавало им вес, тихую, упрямую гордость. Смерть была твоей, личной, как отпечаток пальца, как тень, по пятам следующая за тобой. Мой дед, Авдей, носил свою смерть, как носят драгоценный груз. Я помню, как она поселилась в его маленьком деревенском доме, и дом стал тесен для ее размаха. Казалось, стены трещали под ее напором, под ее хриплым дыханием, под ее тяжелым духом. Тело деда, всегда сухое и жилистое, стало рыхлым, чужим, словно принадлежащим кому-то другому. Оно лежало на высоких подушках, а он требовал, чтобы окна были открыты настежь, даже в мороз, потому что его смерть задыхалась в четырех стенах. Она была огромной, как буря, и он принял ее с достоинством, как принимают старого друга.
Здесь, в этом городе, смерть не приходит – она просто случается, как сбой в программе. Она не дышит, не хрипит, не требует открытых окон. Она бесшумна, как остановившийся тостер, и так же безлична. Я лежу в темноте, слушая пульс в своих ушах, и думаю: учусь ли я умирать или просто растворяюсь в этой тишине, в этом городе, где всё уже решено? Моя бездна, та, что открылась во мне, не дает ответа. Она лишь поглощает – мои мысли, мои слова, мою жизнь. И в этом поглощении есть что-то пугающее, но и завораживающее, как взгляд в пропасть, которая смотрит на тебя в ответ.
В дом валили люди – не крадучись, не на цыпочках, не с постными лицами, как принято в городе. Они входили, принося с собой запахи зимы: колючий холод снега, терпкое тепло сена, землистый дух хлева. Садились на скрипучие лавки, громко сморкались, переговаривались о скотине, о видах на урожай, о том, как нынче рано выпал снег. Женщины развязывали узлы, доставали пироги с капустой, картошкой, яблоками, и их теплый аромат вплетался в воздух, смешиваясь с дыханием жизни. Они не боялись ее – ту смерть, что хрипела в груди деда Авдея, заполняя дом своим тяжелым, хриплым присутствием. Они жили с ней рядом, бок о бок, как с суровой соседкой, которую нельзя прогнать. Подходили к кровати, смотрели на его огромное, почти неузнаваемое лицо, гладили руку, похожую на узловатый корень старого дуба, и говорили с тихой уверенностью: «Терпи, Авдей. Бог терпел и нам велел». И она, эта смерть, слушала. Она не была одинокой. Она была окружена жизнью – запахом капустного супа, плачем младенца за бревенчатой стеной, скрипом колодезного ворота, звенящим в морозном воздухе. Она была делом всей деревни, общим трудом, общим горем. И когда дед умер, плакали все – не только о нем, но о чем-то большем, о том, что принадлежало всем. Это была тяжелая, настоящая, своя собственная смерть, выстраданная, как урожай после долгого лета.
Как взглянул бы дед Авдей на того, кто предложил бы ему умереть иначе – в стерильной палате, под холодный писк аппаратов, среди белых стен, пахнущих дезинфекцией? Он умер своей смертью, тяжкой, как бревна его дома, широкой, как поле за околицей. Его смерть была частью его жизни, ее продолжением, ее завершением.
А я… я противлюсь. Я знаю, что мое сердце уже сломалось, что оно тикает, как треснувший часовой механизм, отсчитывая последние удары. Я говорю себе: ничего, держись, но в глубине души понимаю, что замечаю всё это – тишину, звуки, холод, – потому, что во мне самом что-то начало отделяться, ускользать, растворяться. Я всегда боялся рассказов об умирающих, о тех, кто «уже никого не узнает». В моем воображении их взгляд блуждал в пустоте, цепляясь за знакомые вещи – узор на обоях, трещинку на потолке, тень от занавески, – но находил лишь белую бесплодную пустоту. Будь мой страх меньше, я мог бы утешиться мыслью, что можно видеть мир иначе, по-новому, за гранью привычного. Но страх сильнее. Он невыразимо велик, этот страх перемен, этот ужас перед тем, что ждет за порогом. Я и с этим миром, таким знакомым, таким, казалось бы, понятным, не могу освоиться. Как же мне быть в другом, где всё чужое, где нет ни одной знакомой трещины, ни одного родного узора?
Пока ещё я могу писать, говорить, цепляться за слова, как за канат над пропастью. Но я знаю: настанет день, когда моя рука отдалится от меня, станет чужой, начнет чертить слова, которые мне неподвластны, которых я не пойму. Настанет день иных постижений, когда все мои смыслы, все мои истины растают, как облака в осеннем небе, оставив лишь пустоту. Я стою на пороге чего-то великого, необъятного, и мне это чувство знакомо – так бывало перед тем, когда я намеревался писать, когда слова рождались из глубины словно сами собой. Но на этот раз не я буду писать – меня напишут. Я – лишь черновик, строка, которую вычеркнут и перепишут заново, в новой книге, на языке, которого я не знаю. Еще немного, и я, быть может, пойму. Еще один шаг – и боль станет чем-то иным, чем-то большим. Но я не могу сделать этот шаг. Я упал разбитый и не могу подняться. Мое тело – как треснувший сосуд, из которого высыпается песок, а душа – как лист, уносимый ветром.
Всю ночь я просидел в темноте, не включая света, словно боясь, что свет обнажит мою хрупкость. За окном забрезжил серый безрадостный рассвет, похожий на дно пустой бутылки, мутное и холодное. Внизу, во дворе, раздался звук – сухой, царапающий, будто кто-то скребет по моим костям. Я подошел к окну, прижался лбом к холодному стеклу. Там, внизу, дворник в оранжевом жилете сгребал в кучу несколько палых листьев – жалких, смерзшихся, чудом переживших зиму. Он работал медленно, методично, с тупым, почти ритуальным усердием. Листья складывались в идеальную кучку, затем он достал черный пластиковый мешок, раскрыл его, тщательно собрал их и завязал узел. Двор стал безупречно чистым – ни одного лишнего листа, ни одной лишней детали. Мир был вычищен, стерилен, как операционная.
И вдруг я понял: это я. Я – последний сморщенный лист, цепляющийся за асфальт, за остатки жизни. Скоро придет за мной человек в оранжевом жилете, сгребет меня своим скребком, упакует в черный мешок и выбросит. И никто не заметит. Мир станет только чище, глаже, совершеннее. Я – лишняя деталь в этом безупречном порядке.
«Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков…», – строка из древней книги всплывает в памяти как обломок кораблекрушения. Я отхожу от окна и ложусь на кровать. Простыни холодны, как дыхание небытия, их ледяной холод проникает в кожу, в кости, в самую суть. Я закрываю глаза. В темноте, за сомкнутыми веками, всплывает смутное воспоминание – книга, виденная когда-то на пыльной полке у букиниста. Странное название, что-то про Кавказ, про йогу… Чушь какая-то. Бессмыслица. Я отгоняю эту мысль, как отгоняю муху, но она возвращается, настойчивая, как пульс в ушах.
Я больше ничего не жду. Я готов. Или, быть может, я лишь притворяюсь готовым, цепляясь за последние нити, связывающие меня с этим миром. Но в глубине, в той бездне, что открылась во мне, я слышу шепот – не то зов, не то предупреждение. Он говорит, что всё еще не кончено, что даже в этом падении, в этой боли есть смысл, которого я пока не могу разглядеть. Я лежу, слушая тишину, и жду, когда она заговорит.
Глава 2
Но за мной не пришли. Утро перетекло в день, серый и бесформенный, как несвежая больничная простыня, пропитанная запахом стерильности. Человек в оранжевом жилете давно исчез, оставив после себя лишь вычищенный двор – голую безжизненную пустоту, где даже ветер казался лишним. Я лежал и ждал. Ждал, что лопнет сосуд в мозгу, что сердце, споткнувшись, сделает последний отчаянный кувырок, как циркач, сорвавшийся с каната. Но оно продолжало стучать – упрямо, бессмысленно, словно метроном в пустом классе, где давно нет ни учеников, ни учителя. Ничего не происходило. И в этом бездействии, в этой мучительной неподвижности было нечто более унизительное, чем сама смерть. Тебя приговорили, но палач, кажется, забыл о казни, оставив тебя висеть в пустоте, где время застыло как смола.
Комната стала невыносимой. Ее стены, серые и холодные, сжимались, словно крышка гроба, сданного в аренду на неопределенный срок. Я оделся. Руки двигались сами по себе, как чужие, механические, застегивая пуговицы, завязывая шнурки с той бездумной точностью, с какой машина выполняет программу. Я вышел на улицу. Холодный воздух ударил в лицо как пощечина, но даже он не мог пробудить меня от оцепенения.
Я говорил уже? Я учусь видеть. Да, начинаю, и это зрение лишено милосердия. Оно режет, как скальпель, обнажая то, что я предпочел бы не замечать. Прежде я не видел, как много на свете лиц. Людей – бездна, а лиц – еще больше, но настоящих среди них почти не осталось. Вместо них – маски. Не карнавальные, не театральные, а хуже – маски из собственной кожи, натянутые так туго, что под ними не осталось ничего, кроме голого черепа. Они надеваются с утра, с первым глотком кофе, с первым взглядом в зеркало, и носятся весь день как броня. Маска делового успеха, маска материнской заботы, маска дружелюбного безразличия. Иногда, в толпе, на долю секунды маска сползает. В глазах мелькает такая смертная тоска, такой первобытный ужас перед бессмысленностью застегивания пуговиц, жевания бутербродов, ожидания трамвая, что я отшатываюсь, будто меня хлестнули по лицу. Но тут же мышцы лица дергаются, кожа натягивается обратно, и передо мной снова безупречная, функционирующая поверхность, гладкая, как экран выключенного телевизора.
Я сел в трамвай. Он был почти пуст, и его холодный металлический запах смешивался с сыростью осеннего воздуха. Напротив сидела женщина с ребенком. Малыш лет двух стоял у нее на коленях, прижавшись носом к запотевшему стеклу. Я посмотрел на него – и холод, острый, как игла, пробежал по спине. У него еще не было лица. Лишь заготовка – гладкая, розовая масса, на которой природа лишь наметила контуры глаз, носа, рта. Но в этих глазах, еще не научившихся лгать, еще не прикрытых маской, я увидел то, что видел в себе. Чистый, неразбавленный ужас. Не страх перед громким звуком или чужим человеком, нет. Это был ужас самого бытия, крик души, выдернутой из небытия и брошенной в мир, где нужно дышать, чувствовать, смотреть на серые дома, мелькающие за окном как кадры немого фильма. Ребенок вдруг повернул ко мне свою безликую голову, и его рот открылся в беззвучном вопле. Он не плакал – он кричал голосом бездны, той самой, что смотрела из меня. Женщина не заметила. Она с механической улыбкой поправила ему шапочку. «Смотри, какая машинка поехала», – сказала она, указывая на пустоту за окном, где не было ничего кроме серого асфальта и ржавых рельсов.
Я выскочил на следующей остановке, не доехав до центра. Воздух в трамвае стал густым, как вода, я задыхался. Ноги сами привели меня в маленький сквер, где на скамейках сидели старики, похожие на коряги, выброшенные на берег рекой времени. Они кормили голубей, и те, хлопая крыльями, кружили над крошками, как души, не нашедшие покоя. Но одна фигура здесь явно выделялась. Женщина сидела поодаль, на отдельной скамейке, неподвижная, словно статуя, забытая скульптором. Она не кормила птиц, не смотрела на них. Ее руки лежали на коленях, тяжелые, как камни. Улица была почти пуста, тишина глотала редкие шаги, не оставляя эха. Что-то заставило меня замедлить шаг, остановиться. Женщина вдруг подняла руки – медленно, мучительно медленно – и закрыла ими лицо, будто пытаясь укрыться от холода или от взгляда мира. Она сидела так минуту, может, две, и в этой неподвижности было что-то невыносимо хрупкое. Затем руки опустились, и я увидел ее лицо. Оно было пустым. Не в переносном смысле – абсолютно пустым. Ни морщин, ни черт, ни тени выражения. Гладкая сероватая поверхность, как лист бумаги, с которого стерли набросок. Я замер, боясь вдохнуть, боясь закричать. Еще страшнее было подумать, что осталось в ее ладонях – пустых, как створки раковины, лишенной жемчужины. Я отвернулся, но этот образ врезался в меня как клеймо, как ожог.
Я побежал. Не разбирая дороги, не оглядываясь, я бежал, пока легкие не начали гореть, пока город не превратился в размытое пятно. Ужас – я узнал его. Он входил в меня без спроса, растекался по венам, как яд, и чувствовал себя во мне как дома, как старый жилец, знающий каждый угол. Я вернулся в свою комнату, запер дверь, словно это могло удержать его снаружи. Я ходил от стены к стене, как зверь в клетке, загнанный, но не сломленный. На столе лежал тот скомканный лист бумаги, так и не ставший письмом. Рядом – книга, одна из немногих, что я привез из дома. Я не читал ее, просто носил с собой как талисман, как осколок прошлого, которого уже не существовало. Машинально я разгладил лист. Пустота. Мой взгляд упал на книгу.
Какая нелепость. Какая дикая, неуместная чушь. Йога. Горы. Кавказ. Здоровые, сильные люди, вдыхающие чистый воздух, верящие в какую-то ерунду про энергии, магнетизм, гармонию. Что общего у этого с моей жизнью? С тем, кто видел женщину, стершую свое лицо? С тем, кто заглянул в глаза младенцу и увидел там первобытный ужас бытия? Это было так абсурдно, что я рассмеялся сухим, хриплым смехом, похожим на шорох сухих листьев под ногами. Я взял книгу в руки. Потертая обложка, дешевая бумага, запах старой типографии. Я открыл ее наугад. Схемы, рисунки, непонятные слова: сушумна, кундалини, третий глаз. Бессмыслица. Я захлопнул ее с отвращением, как закрывают дверь перед незваным гостем. Этот язык принадлежал другому миру – миру наивных мечтателей, которые верят, что жизнь можно починить, как сломанный тостер, с помощью правильного дыхания и гимнастики.
Я швырнул книгу в угол. Она ударилась о стену с глухим жалобным стуком, раскрылась на полу, как подбитая птица, и замерла. Но ее название – Кавказская йога – застряло в моей голове, как заноза, как камешек в ботинке. Оно не несло ни смысла, ни надежды. Оно было чужеродным, как болезнь, но упрямым, как пульс, который всё еще бился в моих висках. В мире, где всё распадалось, утекало сквозь пальцы, как песок, эти два слова были единственной твердой вещью. Они раздражали, царапали, болели, но не исчезали. Я лег на кровать и уставился в потолок, где трещины складывались в карту неведомого мира. Я ждал. Но теперь я не знал, чего именно – смерти или чего-то страшнее. Может, того, что скрывалось за этими словами, за этой книгой, за этим нелепым обещанием, которого я не мог ни принять, ни отвергнуть. Тишина комнаты обволакивала меня как саван, но в ней, в этой тишине, я начинал слышать что-то новое – едва уловимый шепот, не то зов, не то предупреждение. Он говорил, что всё еще не кончено, что даже в этой пустоте, в этом страхе есть что-то, чего я еще не увидел.
Глава 3
Сон не приходил. Или, быть может, я спал, но сон был неотличим от бодрствования – серый, вязкий, пропитанный безмолвным ужасом, словно сырой туман, стелющийся над рекой в предрассветный час. Я лежал на спине и потолок давил на меня, как могильная плита. Пыль, скопившаяся за десятилетия в щелях этого дома, оседала на мне, проникала в легкие, становилась частью меня, как песок, заполняющий пустую раковину. Комната начала меня переваривать – медленно и безжалостно, как хищник, который не торопится глотать добычу. Я должен был выйти. Не потому, что искал спасения или надеялся найти ответы. Просто стены сжимались, растворяя меня в своей удушающей тишине.
Я побрел бесцельно, как призрак, забытый в ритуале изгнания. Центральные улицы остались позади. Их витрины сверкали холодным светом, озаряющим манекены, чьи пластиковые лица казались живее, чем лица прохожих. Я свернул в незнакомый квартал, где дома были старше, темнее, теснее, будто сгрудились в тайном сговоре, шепчась о чем-то, чего я не мог разобрать. Воздух был тяжелый, пропитанный сыростью, угольной гарью и чем-то еще – сладковатым, тошнотворным запахом увядания, как от цветов, забытых в вазе до полного тлена. Улица дышала медленно, устало, словно старуха, которой надоело жить, но она не знает, как остановиться.
И тут я увидел их. Не дома – больничные палаты, выстроенные в ряд вдоль узкой улицы. Вы скажете, это были обычные доходные дома начала века, с облупившейся лепниной и мутными эркерами. Нет. Это была больница. Я знал это с пугающей, необъяснимой уверенностью. Окна были безупречно чисты, занавески накрахмалены и задернуты так ровно, как будто выверены по линейке. Из форточек тянуло нежилым теплом и слабым, почти неуловимым запахом карболки, смешанным с металлическим привкусом отчаяния. Это был лепрозорий для тех, чья душа умерла, но тело, по инерции, продолжает дышать, двигаться, существовать.
Я понял, кто живет за этими окнами. Там обитают мастера не-жизни, люди, доведшие искусство пустоты до совершенства. Они встают по звонку невидимого будильника, пьют кофе без сахара и без удовольствия, читают газеты, не вникая в смысл слов, которые скользят по их сознанию, как тени по воде. Они смотрят в окно – Боже, как они смотрят! Их взгляд не цепляется ни за деревья, ни за прохожих. Он упирается в стекло и стекает по нему, как дождевая капля, не оставляя следа. Их жизнь – не события, а процедуры; не страсть, а функции. Их смерть будет такой же – тихой, аккуратной, как галочка в больничном регистре. Никто не закричит, не будет ломать руки. Всё будет сделано по правилам, стерильно, безупречно.
Я остановился напротив одного из таких домов, завороженный, словно мотылек тусклым светом фонаря. И в окне третьего этажа я увидел его. Старика. Он стоял, прижавшись лбом к стеклу, его лицо было серым, как пыль на забытой мебели, как пепел, оставшийся от угасшего костра. Он смотрел на меня. И в этот миг я понял: он меня видит. Не просто замечает как часть уличного пейзажа – он узнал меня. В его пустых выцветших глазах не было ни удивления, ни интереса, лишь холодная констатация: свой. Такой же. Он видел во мне того, кто уже стоит на пороге, того, кто больше не принадлежит миру живых, суетливых, шумных людей. Его взгляд был как зеркало темной воды, в котором я увидел свое отражение – искаженное, но пугающе знакомое.
Я не выдержал. Не побежал, нет – просто развернулся и пошел прочь, чувствуя, как его пустой, всепонимающий взгляд впивается в спину, словно крюк. Этот взгляд был страшнее крика, страшнее приговора. Он был как печать, которой метят обреченных.
Я вернулся в свою комнату, рухнул на стул, словно подкошенный. Всё кончено. Они меня опознали. Они ждут меня в своей палате, по ту сторону окна, где я стану таким же: с серым лицом, с пустым взглядом, с сердцем, которое бьется только по привычке. Я уже зачислен в их легион, в их безмолвное братство покинутых.
Я сидел, тупо уставившись в одну точку. Мой взгляд наткнулся на книгу, валявшуюся в углу.
И тут во мне что-то взорвалось. Не гнев, не ярость, а нечто холодное, острое как лезвие, упрямое, как последний протест приговоренного, который за миг до казни отказывается идти на эшафот. Нет. Я не пойду в их палату. Я не буду стоять с той стороны окна. Если мне суждено умереть, я умру своей смертью. Пусть она будет уродливой, полной хрипа и агонии, как смерть моего деда Авдея, но она будет моей.
Я встал. Пошел и поднял книгу с пола. Пальцы дрожали – от слабости, от отвращения, от чего-то еще, чему я не мог дать имени. Я открыл ее на первой странице.
«Это ключ, данный в простой, концентрированной и точной форме, чтобы победить, решить любую проблему, ответить на любой вопрос в любой области бытия – физической, ментальной, духовной и психической».
Я полистал страницы. Схемы, фигуры в странных позах, стрелки, линии, кружки. Слова казались бредом безумца. «Титаническая Сила GAYA LHAMA пребывает повсюду и постоянно ищет пути проникновения в человека, чтобы проявить себя. Быть восприимчивым к ее гармоничному течению – значит обрести Мастер-Ритм».
Титаническая Сила. Господи! Я чуть не швырнул книгу обратно в угол.
Но что-то заставило меня читать дальше. «ДЫХАНИЕ ЕСТЬ ЖИЗНЬ. Когда оно течет через правую ноздрю – это творческое, электрическое дыхание, питающее вазомоторную систему. В пранаяме его называют пингала – дыхание воина, готового к битве».
Воин. Это слово обожгло меня, как искра, упавшая в сухую траву. Оно зацепилось за что-то глубоко внутри, за что-то, что еще не умерло.
Я не знаю, что на меня нашло. Это не было решением, не было выбором. Это был спазм, рефлекс тела, отказывающегося сдаваться. Я лег на бок посреди комнаты, прямо на холодный пол. Попробовал дышать как было написано. Мои легкие, привыкшие к мелким прерывистым вдохам, воспротивились. Воздух входил с трудом, с болью, словно я глотал битое стекло. Голова закружилась, комната поплыла перед глазами. Я заставил себя терпеть, задержал дыхание. Грудь распирало, в ушах застучало, как барабаны. Что-то внутри сопротивлялось, царапалось, рвалось наружу.
А потом я выдохнул.
Это не был звук «Ха!». Это был хриплый лающий вопль, вырвавшийся из самых недр моего существа. Вопль боли, ужаса, одиночества. Вместе с воздухом из меня хлынула вся моя жизнь – тоска, страх, пустота. Я согнулся пополам, упираясь руками в колени, кашляя, задыхаясь, словно выворачивая себя наизнанку. Горло горело, в глазах потемнело, мир сжался до точки.
Когда приступ прошел, я выпрямился. Ничего не изменилось. Потолок все так же давил, тишина все так же звенела в ушах, как тонкий, высокий звон стекла. Но было одно новое ощущение. В моих легких пылал ледяной огонь. Воздух, который я теперь вдыхал, был острым, холодным, настоящим. Он обжигал, но он был живым. Он был моим.
Я стоял посреди комнаты, шатаясь, как после падения. Я был пуст. Абсолютно пуст. И в этой пустоте, на самом дне той бездны, что открылась во мне, я почувствовал нечто новое – не страх, не отчаяние, а что-то иное. Любопытство. Тонкое, как ниточка, но упрямое, как пульс, который все еще бился в моих висках. Что это было?
Глава 4
Я долго стоял согнувшись над невидимой пропастью, разверзшейся посреди моей комнаты. Я был выпотрошен, опустошен, словно выжженная пустыня, где даже ветер не оставляет следов. Легкие горели, но это был чистый, холодный огонь: не жар болезни, а что-то новое, острое как лезвие, разрезающее тьму. Впервые за долгое время я чувствовал свое тело не вместилищем страха, а пустым сосудом – хрупким, но открытым. Эта пустота не душила, не сдавливала. Она была… нейтральной, словно чистый лист, на котором еще не написана ни одна строка.
Мыслей не было. Мой мозг, измученный бесконечным пережевыванием ужаса, замолк, как старый механизм, исчерпавший свой ход. Инстинктивно, как животное, ведомое лишь чутьем, я подошел к столу и выпил стакан воды. Она была теплой, безвкусной, почти неосязаемой, но я чувствовал, как она течет внутри меня, наполняя пустоту тонкой струйкой жизни. Это было не облегчение, а просто факт – я еще существую.