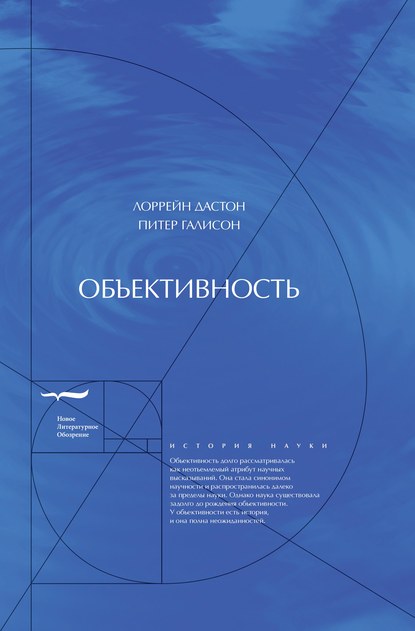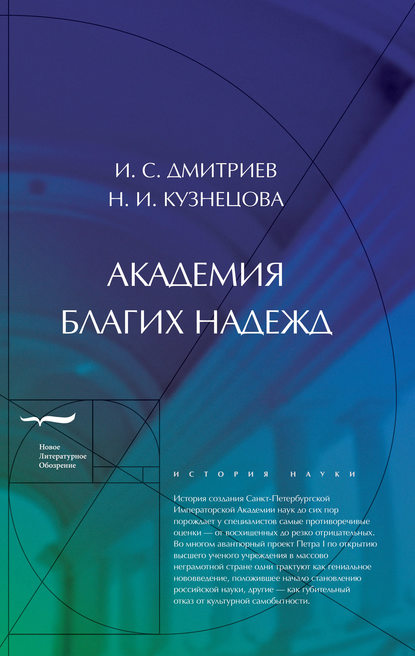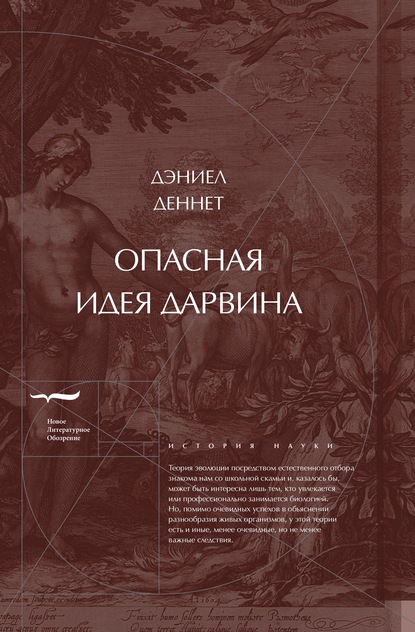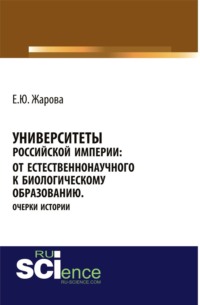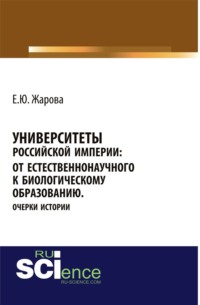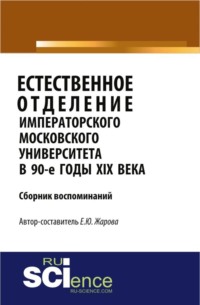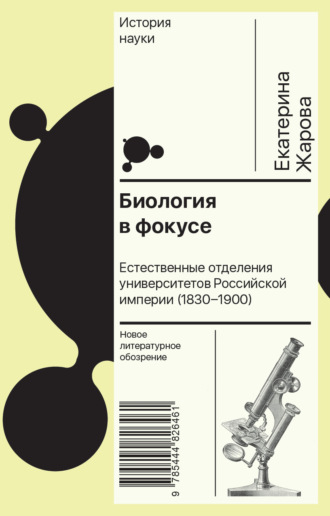
Полная версия
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900)
Санкт-Петербургский университет в ответ на запрос министра о предварительных итогах «опыта» разделения в 1841 г. отвечал, что не считает нужным изучение студентами латыни и дифференциального и интегрального исчисления, и просил заменить эти предметы курсом популярной астрономии95.
Самым новаторским оказалось предложение Казанского университета, Совет которого решил не ограничиваться изменением распределения предметов, отменив преподавание логики и русской словесности и добавив изучение технологии, а ввести более дробное деление на разряды класса естественных наук96. Проект предполагал выделение пяти разрядов на естественном отделении после окончания первого курса: химии, зоологии, ботаники, минералогии и сельского хозяйства. На первом курсе все студенты имели единый учебный план, включавший естественные науки (химию, физику, зоологию, ботанику, минералогию), иностранные языки (латинский, немецкий, французский) и такие предметы, как логика, теория красноречия, церковная история. Разделение на разряды следовало после первого курса. На втором, третьем и четвертом курсах студенты по специальностям зоологии и ботаники изучали одни и те же предметы естественного цикла: ботанику, зоологию, химию, геогнозию, физическую географию, сравнительную анатомию (зоологам полагалось изучать сравнительную анатомию на втором и третьем курсах, ботаникам – только на третьем), минералогию и палеонтологию, а также общие дисциплины – догматическое, нравственное богословие, права состояний, государственные учреждения.
Студенты-ботаники четвертого курса, кроме главного предмета ботаники, должны были изучать лесоводство и луговодство. Вспомогательным предметом для всех студентов выступало сельское хозяйство. Этот проект намного опережал свое время, во-первых, вводя очень дробное деление на разряды, специализация по которым начиналась уже со второго курса, во-вторых, вводя изучение таких дисциплин, как сравнительная анатомия, палеонтология, физиология растений, физиология животных, некоторые из них изучались студентами даже не всех университетов (например, физиология животных и растений). Этот проект не появился просто так, а был логически связан с разработанным в 1838 г. планом преподавания Дерптского университета, который в это время перешел с трехлетнего на четырехлетний курс обучения.
В отличие от остальных российских университетов в Дерптском университете разделение на классы существовало еще в начале XIX в. (согласно уставу 1803 г.). В 1838 г. университет, управлявшийся согласно уставу 1820 г., перешел на курс обучения в четыре года и направил в министерство новый план обучения. Согласно этому плану, студенты могли специализироваться по любой кафедре факультета. В отношении физико-математических и естественных наук это была специализация по математике, астрономии, физике, химии, минералогии, ботанике, зоологии, науке о сельском хозяйстве и лесоводстве, технологии, архитектуре97. Это разделение на разряды было утверждено на первый четырехлетний курс 22 мая 1839 г., затем продлено в 1844 и 1848 гг.
В результате обсуждения, инициированного министерством в 1841 г., разделение физико-математических факультетов (в то время еще вторых отделений философских факультетов) на отделения естественных и математических наук в российских университетах было продлено, а 11 июня 1843 г. было утверждено распределение предметов по двум отделениям в виде опыта на четыре года98. Согласно этому распределению, естественное отделение включало математику, физику и физическую географию, химию, минералогию, ботанику, зоологию, а также новые языки, популярную астрономию, латынь и российские законы.
Это был перечень основных предметов, но университеты могли добавлять новые по своему усмотрению. Так, Московский университет все-таки ввел изучение немецкого языка для естественников, там же изучали анатомию и физиологию, а Харьковский университет в 1843 г. инициировал введение сравнительной анатомии, которая подразумевалась и в проекте Казанского университета и даже читалась там в начале 1830‑х гг. профессором естественной истории Э. А. Эверсманом.
В некоторых университетах естественникам преподавалась латынь (Санкт-Петербургский, Казанский, Харьковский), в других ее не было в перечне обязательных дисциплин. Даже в отношении таких научных предметов, как ботаника и зоология, в университетах существовали различия, которые определялись компетентностью и научными интересами отдельных преподавателей. В конце 1840‑х гг. наибольшее число ботанических дисциплин читалось в Киевском и Московском университетах, зоологических – в Московском, а химических – в Харьковском99. Особенно впечатляет перечень ботанических дисциплин Киевского университета, где в это время работал профессор Р. Э. Траутфеттер, ученик К. Х. Ф. Ледебура, выпускник Дерптского университета. М. Ф. Владимирский-Буданов характеризовал его как «украшение факультета» и «неутомимого труженика по заведению ботанического сада» и подчеркивал, что «он прочитывал в неделю более лекций, чем кто-либо из его товарищей, а в то же время находил возможность производить самостоятельные научные наблюдения и приводить в порядок университетский гербарий»100.
В Московском университете ботанику преподавал А. Г. Фишер фон Вальдгейм, сын профессора Г. И. Фишера фон Вальдгейма, а зоологию – К. Ф. Рулье, один из выдающихся зоологов того времени. Более того, Московский университет, имея лучшую научную базу на медицинском факультете, смог организовать для студентов-естественников занятия по анатомии человеческого тела, анатомии животных, физиологии человека и животных: такого широкого спектра анатомо-физиологических дисциплин не было ни в одном университете.
При этом в Московском университете у студентов-естественников был самый внушительный список физико-математических дисциплин, обязательных для изучения на первых двух курсах, тогда как в остальных университетах физико-математические науки для естественников были редуцированы.
Харьковский университет включал в список дисциплин практические занятия по химии, которые в меньшем количестве, но все же присутствовали также в Московском и Казанском университетах.
Несмотря на единое разделение физико-математических факультетов на отделения математических и естественных наук, а также единый для всех университетов список обязательных предметов по отделениям, в связи с местными особенностями каждый университет имел собственный порядок прохождения курса, включавший те или иные предметы, не встречавшиеся в других университетах. Кроме того, не во всех университетах было установлено деление физико-математического факультета на разряды с первого курса.
Разделение физико-математических отделений русских университетов, состоявшееся в 1830-е – начале 1840‑х гг., отражало состояние преподавания того времени, так как в 1830–1840‑е гг. сложились достаточные условия для полного отделения естественных наук от математических. Первыми шагами в этом направлении стали введение в курс обучения на естественных отделениях специальных дисциплин, подобных сравнительной анатомии, анатомии человека и физиологии животных. Большое значение имело принятие университетского устава 1835 г., изменившее кафедральный состав. Можно заметить, что предложение Санкт-Петербургского университета о разделении физико-математического факультета на два отделения университеты, равно как и министерство, приняли с энтузиазмом, поскольку этот проект соответствовал развитию науки того времени. Кроме того, происходило накопление научных знаний. Реалии второй трети XIX в. требовали более углубленных специальных знаний, а среднестатистический студент физически не мог успевать по всем наукам, входящим в состав предметов физико-математического факультета.
Разделение физико-математического факультета на два отделения и выделение его из состава философского факультета (в 1850 г.) оказалось поворотным моментом развития естественно-научного образования, даже несмотря на то что законодательно разделение на два разряда естественных и математических наук не было закреплено, а так и оставалось «опытом» до начала 1860‑х гг.
Конец 1850-х – начало 1860‑х гг. отмечены подготовкой и проведением образовательной реформы, которая коснулась и естественных отделений. Как уже говорилось выше, преподавание в каждом университете зависело от определенных условий, в первую очередь от наличия преподавателей. Большое значение имел состав корпорации, представители которой влияли на принятие решений в Совете, например по разделению факультетов на отделения и перечню главных предметов. Несмотря на то что перечень кафедр по университетам был одинаковым, каждый из них по собственному разумению выстраивал учебный процесс: профессора объявляли разные курсы, которые читались в разные периоды времени, кроме того, по-разному обстояли дела с практическими занятиями. Не во всех университетах было принято деление на отделения естественных и математических наук с первого курса. В 1850‑е гг. такое деление было в Харьковском и Петербургском университетах. А Московский университет обратился101 в министерство с этим вопросом только в 1862 г. В деле ЦГАМ сохранилось планируемое самим факультетом распределение предметов102. Несмотря на то что Московский университет решил разделить разряды с первого курса, там долго не отказывались от большого числа дисциплин математического разряда в курсе естественного. В других университетах, наоборот, преобладала тенденция к полному отказу от преподавания математики студентам-естественникам. В Санкт-Петербургском университете отказались от преподавания математики естественникам еще в 1856 г.103, в 1862 г. об этом же просил Харьковский университет, просьба которого была удовлетворена104.
Отказ от предметов математического цикла для студентов-естественников в 1860‑е гг. объясняется желанием перейти на более специализированное преподавание, окончательно отделить студентов-естественников от студентов-математиков. Новый университетский устав 1863 г., увеличивавший число кафедр физико-математического факультета, а также число кабинетов и лабораторий для практического преподавания наук в университетах, как нельзя лучше способствовал усилению специализации, которая в 1860‑е гг. сдерживалась только наличием вакантных кафедр. Передача решений о разделении факультетов на отделения университетским Советам породила множество проектов разделения естественного разряда на отделы, речь о которых пойдет далее.
Еще на этапе подготовки университетского устава представители университетской корпорации и структур государственной власти приняли активное участие в обсуждении проекта. Мнения эти в 1862 г. были опубликованы под названием «Замечания на проект общего устава Императорских российских университетов». В этом своде замечаний и предложений есть и те, которые касались деления факультетов на отделения. Идея деления приветствовалась, но высказывались опасения в «полезности» передачи решения полностью университетским Советам. Об этом, например, писал тайный советник, сенатор Н. Р. Ребиндер: «Дозволить университетам делать это по их собственному усмотрению признаю неудобным. Дробление факультетов на специальности и отнесение к каждой соответствующих ей предметов преподавания – предмет весьма важный в общей системе университетского образования. Местные особенности каждого края, конечно, могут требовать изъятий из нее, но изъятия не должны нарушать общее единство. В отношении деления факультетов на специальные части, общее единство необходимо и в строго научном смысле, и по единообразности цели университетского преподавания, необходимо оно также потому, что уставом дозволяется студентам переходить из одного университета в другой»105.
П. Л. Чебышев, профессор математики Санкт-Петербургского университета, считал, что разделение факультетов возможно только с разрешения министра народного просвещения106.
И. Д. Делянов, будущий министр народного просвещения, говоря о необходимости разделения факультетов для пользы специализации, так как «слушатели обременены слишком большим числом предметов», считал, что не следует допускать в каждом университете установления тех отделений, «которые ему заблагорассудится», так как «может установиться такое разнообразие, что студентам не возможно будет переходить из курса в курс по разным университетам»107.
Д. С. Левшин, попечитель Харьковского учебного округа, писал, что утверждение разделения министром «необходимо для устранения произвола, зависящего от изменчивого взгляда коллегии и отдельных членов, особенно при перемене последних, и с другой стороны для возможного сохранения в этом отношении если не полного однообразия, то по крайней мере единства в учебном устройстве всех Русских университетов, ибо отсутствие такого единства отзывалось бы в неизбежных затруднениях при переходе из одного университета в другой». Кроме того, добавляет Левшин, «разветвление известной отрасли наук на специальные отделения должно быть соображаемо не только с чисто научными интересами, но и с интересами государственной службы, которые и имелись преимущественно в виду правительством при учреждении университетов, а соображение последнего рода никак не может обойтись без санкции высшей власти»108.
Таким образом, деление факультетов на отделения представлялось необходимым, но затруднения, которые оно могло вызвать (в первую очередь проблема свободного перехода студентов из одного университета в другой), требовали обязательного утверждения разделения на уровне министра народного просвещения. Дальнейшие события, а именно попытки разделения физико-математических факультетов после принятия устава 1863 г., показали, что опасения эти, в общем-то, были обоснованными.
Разрешение делить факультеты на отделения согласно уставу 1863 г. (для разделения все же требовалось окончательное утверждение министра) привело к тому, что после принятия устава университеты начали массово обращаться с прошениями в МНП. Главным требованием было ограничение круга обязательных предметов для естественников, которое зависело в первую очередь от местных возможностей. Санкт-Петербургский университет выразил необходимость разделения факультетов на разряды и отделения таким образом: «…слушатели обременены слишком большим числом предметов. От чего происходит то, что они, при нынешнем разветвлении наук не только не в силах предаться какой-либо специальности, но и в главных предметах скользят по поверхности их»109.
Харьковский университет представил проект, включающий три отделения – математическое, физико-химическое и естественное110. Несмотря на то что некоторые члены ученого комитета были против подобного разделения, этот проект был передан министру, и 21 октября 1864 г. физико-математический факультет Харьковского университета был разделен111. Физико-химическое отделение просуществовало двадцать лет, до принятия нового устава 1884 г.112 Все дальнейшие попытки открыть отдельные химические отделения в других университетах в конце XIX – начале XX в. не увенчались успехом: химиков готовили естественные отделения.
Те университеты, которые были открыты после принятия общеуниверситетского устава 1863 г., закрепившего возможность разделения факультетов на отделения, практически сразу «получали» разделенный на два отделения физико-математический факультет. Это касается Новороссийского университета, открытого в 1865 г., в котором разделение состоялось 5 июня 1865 г., и Варшавского университета, где факультет был разделен 17 августа 1870 г.
Таким образом, организация естественных отделений в структуре физико-математических факультетов российских университетов началась в конце 1830-х – начале 1840‑х гг. и окончательно закрепилась уже после принятия устава 1863 г., разрешавшего деление факультетов на разряды. Это привело к появлению проектов деления факультетов не только на два отделения. Как уже говорилось выше, три отделения имел Харьковский университет. Молодой Новороссийский университет в 1866 г. представил проект из четырех отделений – математических, физико-химических, естественных, технических наук и агрономии113. Он был признан ученым комитетом министерства «рациональным», но его полной реализации помешало отсутствие преподавательских кадров.
В 1864 г. в Совете Казанского университета рассматривался проект физико-математического факультета под названием «Правила для разделения физико-математического факультета на специальные отделения», который подразумевал выделение с третьего курса трех отделений в структуре разряда естественных наук: a) зоологии, б) ботаники и в) химии, минералогии и геологии114. Первые два курса предполагали слушание общих для всех студентов-естественников курсов лекций, а третий и четвертый курсы должны были дать возможность студентам специальных отделений заниматься практическим изучением выбранной науки под руководством профессоров. Причем практические работы учитывались бы наряду со словесными ответами при переходе с курса на курс. Согласно этим «Правилам», естественное отделение физико-математического факультета Казанского университета было разделено115 на три отделения 30 декабря 1864 г.
Инициатором общероссийской дискуссии об углублении специализации и о необходимости ее наличия выступил Санкт-Петербургский университет. В 1866 г. там появился проект разделения предметов естественного отделения на общие и специальные курсы. Этот проект перекликался с утвержденным в 1864 г. разделением естественного отделения Казанского университета с третьего курса на три разряда, но, кроме того, давал возможность специализации для лучших студентов в любой из преподаваемых наук естественного отделения.
Причина для появления предложения физико-математического факультета Петербургского университета была такова: «…требование от студентов специальных знаний в одинаковом объеме по различным отраслям естествоведения на окончательном испытании, по мнению означенного факультета, не дозволяет им сосредоточить свои силы над изучением более ограниченного круга предметов, вследствие чего, сравнительно с числом учащихся, университет доставляет довольно незначительное число специалистов»116. В качестве мер, позволивших бы изменить данную ситуацию, факультет называл деление курсов на общие и специальные, при этом общие курсы при сдаче итогового экзамена были бы обязательными для всех, а вот те студенты, которые желали бы получить кандидатский диплом, должны были бы сдавать дополнительно два предмета из числа специальных курсов.
К общим курсам относились богословие, опытная физика, физическая география, химия (неорганическая, органическая и аналитическая), общий курс минералогии, геология, зоология, анатомия человека и физиология, ботаника: анатомия и физиология растений и систематика. В качестве специальных курсов выступали химия теоретическая, аналитическая и органическая, кристаллография, физические свойства минералов, специальная минералогия, геология и палеонтология, специальная зоология, сравнительная анатомия, специальный курс физиологии, ботаника, физиология и анатомия растений и систематика, технология и агрономия117. То есть этот проект давал возможность изучать студентам все главные предметы естественного отделения, а лучшим из них специализироваться по любым двум наукам из предложенных. Таким образом, он подразумевал специализацию по шести отделениям: химии, минералогии, геологии, зоологии, ботаники, технологии и агрономии.
Этот проект был вынесен на обсуждение в других университетах. И если большинство университетов интересовало, как именно будут выбираться специальные курсы, так как они в целом одобряли подобную специализацию (Университет святого Владимира, например, указывал на то, что требовать специальных знаний по всем отделам не следует, но в предлагаемом проекте не усматривал решение этой проблемы118), то Московский университет назвал подобное разделение неудобным и недопустимым, считая, что оно «не только не принесет ожидаемой пользы, но скорее повредит делу, а противореча цели университета, превратит естественное отделение математического факультета в специальную школу, из которой будут выходить лишь узкие (по недостатку общего образования) специалисты, а не ученые деятели, что едва ли желательно»119.
Декан физико-математического факультета Московского университета А. Ю. Давидов, критикуя специализацию, подчеркивал: «Дело университета иное. Как гимназия приготовляет молодого человека, имеющего общие, необходимые для каждого образованного человека сведения, к выбору известного отдела человеческих знаний, к выбору факультета, соответственно его способностям, так окончивший курс в университете делается способным к выбору одной науки, которой может, если пожелает, посвятить всю свою жизнь. Университетский устав предвидел это: не дается степени кандидата химии, зоологии и прочее, а выдается диплом на степень кандидата естественных наук вообще. Магистерство и докторство, напротив, распределены по отдельным наукам. Университет не должен и не может готовить специалистов, а лишь людей, получивших возможность сделаться впоследствии специалистами в той или другой отрасли человеческих знаний»120.
В позициях двух столичных университетов – Московского и Санкт-Петербургского – выразились два противоположных мнения, одно из которых видело в университете «храм наук», дающий знания по всем наукам выбранного факультета в как можно более широком понимании, а другое – «специальную высшую школу», которая дает углубленные знания по определенной специальности, то есть готовит специалистов для конкретных отраслей промышленности и сельского хозяйства. Следует сказать, что подход Московского университета, ратовавшего за классическое образование, был хорош при подготовке учителей средней школы, а подход Санкт-Петербургского университета учитывал стремительное развитие естественных наук во второй половине XIX в., то есть был нацелен на будущее.
Противоборство этих двух позиций сказалось и на обсуждении проекта в ученом комитете министерства, который не смог принять однозначного решения, поэтому министр граф Д. А. Толстой предложил вынести этот вопрос на обсуждение профессоров на I съезде естествоиспытателей. За это же ратовал попечитель Казанского учебного округа П. Д. Шестаков, считая, что нельзя отдавать этот вопрос на откуп нескольким специалистам.
В результате вопрос о специализации студентов-естественников рассматривался комиссией профессоров физико-математических факультетов русских университетов геолога Г. Е. Щуровского (Москва), физика И. А. Больцани (Казань), зоолога И. А. Маркузена (Одесса), химика Д. И. Менделеева (Санкт-Петербург), математика И. И. Рахманинова (Киев), зоолога А. В. Черная (Харьков), геолога К. М. Феофилактова (Киев) под председательством Г. Е. Щуровского в заседаниях 28, 30 декабря 1867 г. и 4 января 1868 г. В первую очередь, комиссия большинством голосов решила, что нужна большая специализация занятий студентов, так как «требование от студентов подробных знаний в одинаковом объеме по всем наукам, входящим в тот или другой разряд физико-математического факультета, не дозволяет им сосредоточивать свои силы над изучением более ограниченного круга предметов»121. Кроме того, при большей специализации студентов могло бы появиться требование обязательности практических занятий, которые впоследствии стали бы частью итогового экзамена в виде оценки за практические работы.
Члены комиссии посчитали правильным, по примеру Казанского университета, начинать более глубокую специализацию только с третьего курса, а не с первого. Еще одним принципиальным решением комиссии явился отказ от унификации преподавания и специализации во всех университетах, так как единообразие «не составляет необходимости и во многих случаях могло бы вредно действовать на самостоятельное развитие физико-математического факультета того или другого университета»122. Это было связано с тем, что профессора считали специализацию только тогда плодотворной, когда она выражалась в развитии порядка занятий, считая, что специализацию могут определить только научные интересы того или иного профессора. В итоге комиссия пришла к выводу, что право решать вопрос о специализации или сохранении действующего порядка разделения на два отделения должно быть передано непосредственно факультетам.
Член ученого комитета министерства химик А. И. Ходнев, напротив, считал, что разделение факультетов может быть сделано только министром и должно быть единообразно123. При понимании специализации в виде дальнейшего разделения факультета, считал Ходнев, необходимо унифицировать разделение, так как специальные отделы «должны быть составлены так, чтобы науки, входящие в известный отдел, находились между собой в тесной, так сказать органической связи»124. Поэтому, по его мнению, специализация по проекту Санкт-Петербургского университета не имела смысла после разделения факультета на отделения математических и естественных наук. Более того, ученый комитет обратил внимание, что Петербургский университет имел в виду специализацию для соискателей звания кандидата, то есть для наиболее успешных студентов, оставляя остальным перечень общих предметов. Дальнейшее рассмотрение этого вопроса было передано министру.