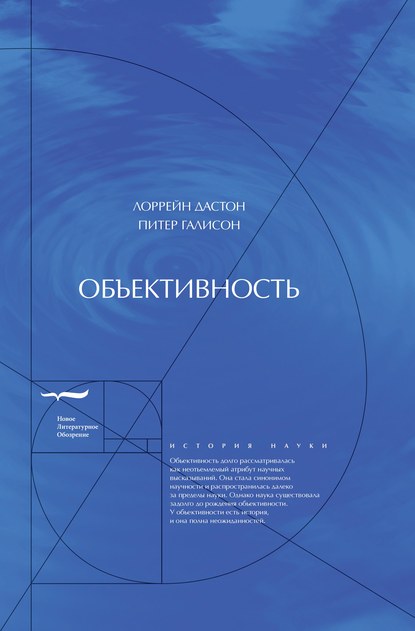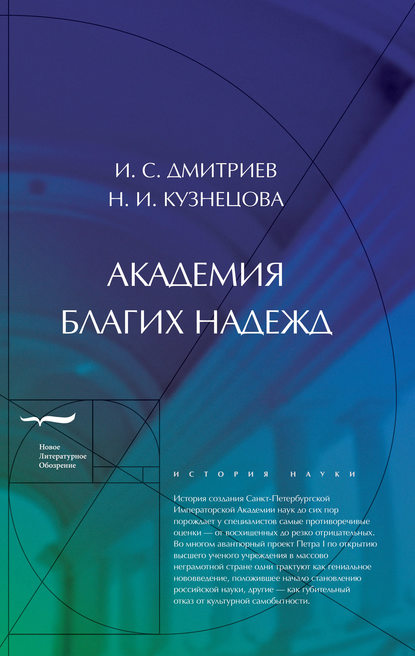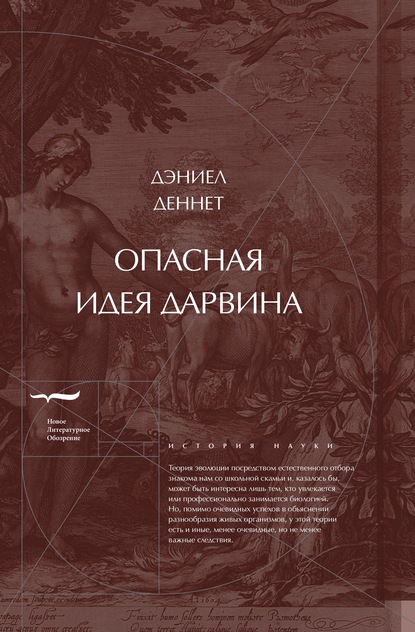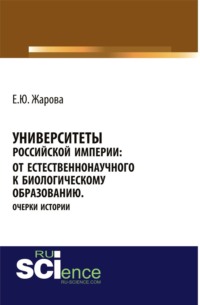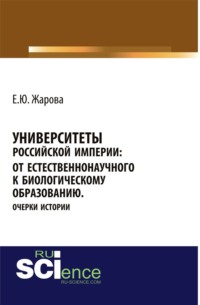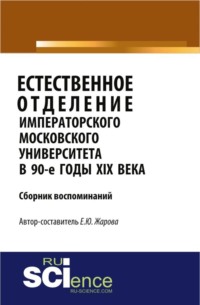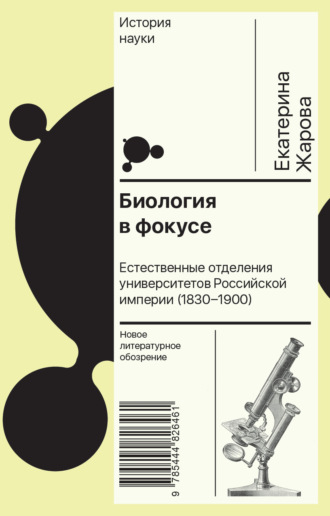
Полная версия
Биология в фокусе. Естественные отделения университетов Российской империи (1830–1900)
Появление физико-математических факультетов важно потому, что до этого в Московском университете присутствовало три факультета – высшие юридический и медицинский и низший философский, который объединял кафедры гуманитарного и естественно-научного циклов, то есть структура университета была совершенно иной. Но уже на этапе разработки проектов университетского устава начали появляться ее альтернативные версии. Например, первый проект попечителя Московского учебного округа М. Н. Муравьева, датированный 1803 г., предусматривал создание пяти факультетов, копируя геттингенскую модель, – медицинского, богословского, физико-математических наук, словесных наук и философского (нравственных и градоправительных наук)55. Вторая редакция этого проекта, относящаяся к первой половине 1804 г., возвращалась к привычной схеме, в которой естественные науки входили в состав философского факультета (в проекте – факультет умственных и естественных наук).
Идея о выделении физико-математического факультета из состава философского присутствовала и в проекте академика-математика Н. И. Фусса. Он предложил открыть четыре отделения – словесных наук и изящных искусств, физико-математических, врачебных и хирургических, философских, нравственных и политических наук56. На отделении физико-математических наук должны были появиться шесть кафедр: чистой математики и астрономии, физико-математики и экспериментальной физики, описательной геометрии и архитектуры, химии и минералогии, ботаники и физиологии растений, естественной истории царства животных57. Как и М. Н. Муравьев, предполагавший физико-математический факультет подготовительным для будущих врачей58, Н. И. Фусс писал, что наряду со словесным отделением физико-математическое «обнимает все подготовительные науки <…> После изучения которых тот, кто посвящает себя медицине, переходит в третье отделение, где курс обучения составляет четыре года59», другие же переходят в четвертое, юридическое отделение, на трехлетний курс обучения60.
Несмотря на некую «подчиненность» физико-математических отделений, заложенную в проекте Фусса, в университетские уставы вошло именно предложенное им деление на четыре отделения – словесных, физико-математических, нравственно-политических и врачебных наук, но отделения эти были равноправными, не предполагавшими подготовительные курсы на одних для обучения на других. Даже использование самого слова «отделение», как указывает А. Ю. Андреев, вместо традиционного «факультет» в университетских уставах 1803–1804 гг. было как раз продиктовано желанием «не смешивать их новую природу с традиционными европейскими „факультетами“»61.
Первоначально эта структура была опробована в уставе Виленского университета 1803 г., а затем вошла в уставы 1804 г. Только один университет, Дерптский, сохранил «старую», еще средневековую структуру из четырех отделений (но все же не факультетов) – философского, юридического, медицинского, богословского, однако приложение идей о разделении преподаваемых наук на части имело место и здесь: философское отделение делилось на четыре класса, «в рассуждении разнообразия и различия предметов наук, его составляющих: 1‑е философских и математических наук, 2‑е естественных наук, 3‑е филолого-исторический и 4‑е технолого-экономический классы»62. Иную модель структуры Дерптского университета А. Ю. Андреев объясняет тем, что «Виленский университет организовывался позже Дерптского, весной 1803 г., когда министерство народного просвещения уже успело утвердить новую систему университетских отделений»63. Таким образом, благодаря уставам 1803–1804 гг. в университетах появились физико-математические отделения, а в Дерптском – даже класс естественных наук философского факультета.
Уже через шестнадцать лет была отмечена первая попытка разделения физико-математического отделения: в 1820 г. в Санкт-Петербургском университете для казенных студентов. Они были вынуждены изучать все предметы факультета (в отличие от своекоштных, выбиравших дисциплины для изучения), поэтому по ходатайству Конференции казеннокоштных студентов физико-математический факультет разделили на два разряда – физико-математических и естественных наук. Как подчеркивал В. В. Григорьев, «это был едва ли не первый в русских университетах опыт раздробления факультетских предметов на однородные группы, с целью, если не специализации, то облегчения занятий»64.
Именно облегчение занятий было основным посылом подобного разделения, так как программа физико-математического отделения была насыщена большим числом естественных и точных наук. Эта же причина (большая нагрузка студентов) была названа Советом Харьковского университета, проект которого был представлен в министерство в 1823 г. В нем в качестве источника плохой успеваемости студентов была указана перегруженность отделения предметами, «кои студенты должны выслушать в течение трех лет, то они никак не могут во всех равно успевать, так что успевающие в естественных науках, отстают в математических и наоборот»65. Согласно этому проекту общими дисциплинами обоих разрядов должны были стать логика и богопознание, в остальном же разряды полностью разделяли науки на естественные и физико-математические.
На заседании ученого комитета Главного правления училищ 12 мая 1823 г. граф И. С. Лаваль указал, что предложение Харьковского университета заслуживает одобрения, но из обязательных наук следует убрать логику, военное дело и архитектуру с геодезией. Сообразно этому замечанию комитет одобрил разделение факультета с тем распределением наук, на которое указал Лаваль. Несмотря на согласие ученого комитета, разделение физико-математического отделения Харьковского университета в середине 1820‑х гг. не состоялось в связи со сменой попечителя – Е. В. Карнеева в 1825 г. сменил А. А. Перовский, которому министр народного просвещения представил мнение членов ученого комитета и попросил прислать заключение. Новый попечитель, как указывал Д. И. Багалей, ответил министру, что так как «ныне дела до подобных предметов касающиеся, подлежат суждению и разбирательству Высочайше утвержденного комитета устройства учебных заведений, то я, по этому комитету, в свое время не премину представить вам, милостивый государь, и вышеозначенное заключение мое»66. Но ни в следующем, 1826 г., ни позднее попечитель свое заключение не представил, поэтому проект разделения физико-математического факультета Харьковского университета так и остался на бумаге67. Связано это было в первую очередь с тем, что началась подготовка нового университетского устава.
Решать накопившиеся в университетском образовании проблемы после смерти императора Александра I пришлось новому императору Николаю I: было расформировано Министерство духовных дел и народного просвещения, министром народного просвещения был назначен А. С. Шишков, и началась подготовка нового университетского устава, для чего был создан Особый комитет для устройства учебных заведений. Как подчеркивает Ф. А. Петров, «принципиальным отличием готовившейся новой университетской реформы от реформы 1804 г. было приглашение к активному участию в ее разработке самой университетской профессуры: она к этому времени сложилась в корпорацию, с которой приходилось уже считаться самодержавному правительству»68.
Одним из первых мнений профессоров о желательных изменениях было «Мнение профессоров Московского университета» (1825), которое среди прочего содержало предложение о разделении физико-математического отделения на две части: математических и естественных наук. В первую часть планировалось включить кафедры математики (чистой и прикладной), астрономии (астроном-наблюдатель), военной и гражданской архитектуры, во вторую – кафедры физики (теоретической и опытной), химии, естественной истории (демидовская), ботаники, сельского хозяйства и технологий69.
Профессор физики, минералогии и сельского хозяйства Московского университета М. Г. Павлов в своем проекте предложил не только разделить физико-математическое отделение на два отдельных факультета (что так и не было осуществлено даже в начале XX в.) – физико-технический и математический, но и увеличить число кафедр на этих факультетах, которые смогли бы обеспечить полноту преподавания. Так, на физико-техническом факультете Павловым предполагались профессора физики, химии, минералогии и науки о горных заводах, ботаники, зоологии, сельского хозяйства и технологии, на математическом – математики, механики, оптики, астрономии, астроном-наблюдатель, гражданской и военной архитектуры, военных наук70. Можно заметить, что проект Павлова отражал тенденции к более практическому преподаванию в университете.
Другой профессор Московского университета математик П. С. Щепкин, предлагая в своем проекте сформировать отдельную кафедру зоологии, тем не менее отрицательно относился к разделению физико-математического отделения, опасаясь, что преподавание одних математических или естественных наук может быть слишком односторонним и частным71. В проекте устава Казанского университета в составе кафедр физико-математического факультета наряду с кафедрой ботаники и минералогии присутствовала кафедра зоологии и сравнительной анатомии72.
Появлявшиеся проекты нового устава содержали циркулировавшие среди профессоров идеи о разделении физико-математического отделения. Свое отражение они нашли и в «Проекте устава университетов С.-Петербургского, Московского, Харьковского и Казанского» 1829 г., который подразумевал пять отделений – философическое, математическое, филолого-историческое, юридическое и медицинское. К философическому отделению были отнесены кафедры философии, физики, химии, технологии и истории искусств, ботаники, минералогии и геогнозии, зоологии, педагогики и методологии, политической экономии и камеральных наук, а к математическому – чистая и прикладная математика, астрономия, механика по части применения к промышленности, военные науки73. Как видно, философическое отделение представляло собой сплав естественных и гуманитарных наук, воплотившийся в создание десятилетием позже отделения камеральных наук на юридических факультетах некоторых университетов для подготовки чиновников для хозяйственной и административной государственной службы. Кроме того, наличие кафедры педагогики и методологии в проекте подразумевало подготовку преподавателей для высшей и средней школы.
В этом проекте как нельзя лучше отражались наиболее прогрессивные тенденции того времени о разделении физико-математических отделений и одновременно закладывались основы для подготовки специалистов, нацеленных на будущую службу в разных сферах – государственной службы, образовании, сельском хозяйстве, решался вопрос и о подготовке образованных дворян-помещиков, которые могли бы вести свое хозяйство более рационально. В то же время нетрудно заметить, что проектируемое философическое отделение скорее представляло собой идеализированную модель (здесь, как подчеркивает Ф. А. Петров, явно прослеживаются идеи М. Г. Павлова74) того, как следует изучать науки в университете, поэтому неудивительно, что в итоге в университетский устав эта модель так и не вошла, а созданные в 1840‑е гг. камеральные отделения через двадцать лет существования тоже были упразднены.
Говоря о назначении физико-математических факультетов университетов и о назревающем их разделении на самостоятельные разряды математических и естественных наук, нельзя не отметить, что большинство проектов нового устава и мнений профессоров содержали рекомендации о сохранении кафедры военных наук или создании таковой, рассматривая физико-математические отделения в качестве базы подготовки дворян, желавших получить военное образование, что было заложено еще уставом 1804 г. Помощник попечителя Московского учебного округа Д. П. Голохвастов в своей записке «О Московском университете» (1832) подчеркивал это, предлагая изменить предметы физико-математического отделения, добавив к точным наукам статистику, историю, географию для дворян, которые желают приготовиться к военной службе75. Все это говорило о том, что, несмотря на потребности общества в подготовке преподавателей и на появлявшееся еще в 1820‑е гг. мнение о том, что военные науки являются излишними для обучения на физико-математическом факультете, все же продолжал культивироваться взгляд на университеты как места обучения преимущественно дворян (такими университеты видел и сам Николай I).
Однако при подготовке нового университетского устава не могло игнорироваться современное развитие наук, да и к тому же сам император 15 сентября 1832 г. приказал «уничтожить преподавание военных наук в университетах и гимназиях повсеместно»76. По этой причине устав 1835 г. не имел кафедры военных наук для физико-математического отделения философского факультета. Устав не увеличивал число кафедр этого отделения, а, наоборот, уменьшал – с девяти до восьми. Согласно уставу 1835 г. физико-математический факультет состоял из кафедр чистой и прикладной математики, астрономии, физики и физической географии, химии, минералогии и геогнозии, ботаники, зоологии, технологии, сельского хозяйства, лесоводства и архитектуры. Новая кафедральная структура как нельзя лучше отражала уровень развития наук того времени.
Безусловно, значимым событием для развития естественно-научного образования можно назвать введение уставом 1835 г. кафедры зоологии. В некоторых университетах: в Санкт-Петербургском, имевшем кафедральный состав Педагогического института, в Московском, где согласно уставу 1804 г. существовала так называемая Демидовская кафедра естественной истории, которую занимал зоолог Г. И. Фишер фон Вальдгейм, – еще до принятия устава 1835 г. существовали отдельные кафедры зоологии, но лишь принятие общеуниверситетского устава 1835 г. унифицировало кафедральную структуру и закрепило окончательное разделение естественной истории на три отдельные ветви (ботаника, зоология и минералогия). Усиление естественно-научного компонента в составе кафедр второго отделения философского факультета, как назывался физико-математический факультет после принятия устава 1835 г., явилось причиной для скорейшего выделения из состава факультета естественного разряда.
Если говорить о взглядах самого императора Николая I, то надлежит признать, что он был скорее сторонником специализации. Именно с царствованием Николая I и министерством С. С. Уварова связано введение специализации в области естественных наук – то, чего добивался Харьковский университет еще в начале 1820‑х гг. О том, что нагрузка студентов является причиной трудности обучения на физико-математическом факультете, указывалось и при разделении его в Петербургском университете в 1820 г., об этом же писал помощник попечителя Харьковского учебного округа граф А. Н. Панин в 1833 г.77 да и сам попечитель Харьковского учебного округа граф Ю. А. Головкин в 1834 г.: «Многочисленность преподаваемых предметов слишком обременительна для учащихся, а потому многие из них не решаются избирать этого факультета, а сверх того весьма ощутителен недостаток в преподавателях»78.
В связи с этим Головкин направил представление министру С. С. Уварову о разделении факультета, который вынес его на обсуждение в Комитет по устройству учебных заведений, но дальше этого дело не пошло. Сам физико-математический факультет Харьковского университета выработал распределение предметов по годам обучения для обоих отделений, которое раскритиковал профессор математики Харьковского университета М. А. Тихомандрицкий в историческом очерке к столетию факультета в 1905 г., назвав его подобающим для технического училища, а не для университета из‑за практической направленности предложенных курсов79. Они включали рисование, архитектуру, приложение химии к искусствам и ремеслам.
То есть в университетах неоднократно появлялись предложения о разделении физико-математических факультетов, а уже после принятия устава, 13 июля 1836 г., подобное предложение в МНП поступило от попечителя Петербургского учебного округа князя М. А. Дондукова-Корсакова.
Основной причиной для разделения физико-математического отделения вновь была названа обширность изучаемых предметов: «Судя по обширности и разнородности учебных предметов, причисляемых уставом к обоим отделениям философского факультета, нет сомнений, что в одинаковой степени основательные знания их превышают меру способностей учащихся и если бы для некоторых счастливых умов оно и оказалось возможным, то наибольшая часть студентов, развлекаясь многими весьма различными предметами учения, в которых требовалось бы от них одинаковых успехов, приобрели бы в каждом поверхностные познания, и цель университетского учения была бы таким образом вовсе потеряна»80.
По проекту Санкт-Петербургского университета предметы разделялись на специальные (для естественного разряда – математика, физика и физическая география, химия, минералогия и геогнозия, ботаника, зоология), общие (философия, языки, логика, законодательство, богословие) и второстепенные (математические дисциплины, сельское хозяйство и архитектура)81. При сравнении с проектом Харьковского университета 1823 г. заметны значительное улучшение наполненности преподавания по обоим разрядам, качественно иной подход к разделению факультета, который полностью отвечал как развитию науки того времени, так и потребностям государства. Этот план как нельзя лучше отражал взгляд Уварова и самого императора Николая I на университетское образование, которое должно было давать специальность для дальнейшей работы в отдельных отраслях государственного управления на благо государства. Этой же цели служило изучение российских законов, сохранявшееся на протяжении всего николаевского царствования. Введение в учебный план общих и дополнительных предметов приводило к балансу между специальным и общеобразовательным компонентами, не позволяло совершать резкий скачок к узкоспециализированному образованию, условия для появления которого в российских университетах в 1830–1840‑е гг. еще не созрели.
С. С. Уваров утвердил предложение Санкт-Петербургского университета в виде опыта на один год уже через десять дней – 23 июля 1836 г. то ли потому, что эта идея давно витала в воздухе и неоднократно предлагалась в процессе обсуждения университетского устава, то ли потому, что князь М. А. Дондуков-Корсаков был его другом. Впрочем, министр народного просвещения С. С. Уваров, который видел основной задачей университетов приспособление наук к решению задач промышленности и сельского хозяйства, априори не мог быть против подобного проекта, поэтому уже 16 сентября 1837 г. он был утвержден в виде опыта на четыре года для Санкт-Петербургского университета и распространен на Московский и Казанский университеты82, но не на Харьковский, который первым, еще в 1823 г., просил о разделении факультета. Таким образом, годом рождения естественного отделения (тогда – разряда) следует считать 1836-й. Однако обязательно следует отметить, что деление на разряды математических и естественных наук в то время начиналось только с третьего курса.
Совет еще одного университета, святого Владимира, в феврале 1840 г. ходатайствовал перед министром о разделении учебных предметов второго отделения философского факультета, мотивируя это тем, что «науки, входящие в состав 2‑го отделения философского факультета по предметам, которые каждая из них обнимает собою, чрезвычайно обширны, а по своей важности в общежитии требуют от занимающихся ими точных глубоких сведений <…>. По сему, чтобы обеспечить занятия студентов и вместе дать способностям и склонностям каждого из них надлежащее направление второе отделение философского факультета находит полезным и даже необходимым как для успеха самих наук, так и для прочного образования студентов, разделить все науки, преподаваемые студентам сего отделения на 2 разряда: 1. Наук математических и 2. Наук естественных, с тем, чтоб от студента, объявившего заниматься одним из сих разрядов, строго требовать основательных познаний только в науках, принадлежащих к этому разряду»83.
В отличие от «опыта», распространенного на три университета в 1837 г., план Университета святого Владимира не предполагал дополнительных предметов, причисляя технологию и сельское хозяйство к основным изучаемым дисциплинам наряду с зоологией, ботаникой, минералогией, физикой и географией, химией. Общим для проектов обоих университетов было включение математики в число обязательных предметов естественного отделения.
Попечитель Киевского учебного округа князь С. И. Давыдов «по местным причинам» добавил к списку предметов для изучения отечественную историю, которую министр в итоге разрешил читать студентам, согласившись на разделение с 1840/41 учебного года84.
В связи с разделением физико-математического факультета в Университете святого Владимира возникает вопрос, почему второе отделение философского факультета не было разделено в Харьковском университете, как это было сделано в остальных русских университетах в 1837 г. Даже в ходатайстве Университета святого Владимира среди университетов с разделенными факультетами ошибочно указывается Харьковский, тогда как распоряжение по министерству о разделении физико-математических факультетов не касалось Харьковского университета, да и в сборнике, составленном к 100-летию физико-математического факультета Харьковского университета, указывалось, что в Харьковском университете разделение второго отделения философского факультета «состоялось в промежуток времени 1842–1845 гг.»85.
Несмотря на то что попечитель Киевского учебного округа князь С. И. Давыдов в обращении в министерство по поводу разделения отделений в Университете святого Владимира указал, что «господин министр народного просвещения утвердил 6 мая 1837 г. в виде опыта на 4 года распределение предметов в университетам по отделениям наук, предписал тогда же попечителям учебных округов Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Харьковского ввести это распределение в вверенных им университетах (от начала будущего академического года) в виде опыта на 4 года»86, тем не менее скорее стоит доверять распоряжению по Министерству народного просвещения, которое в числе университетов не называет Харьковский университет, где это разделение было произведено позднее, чем в остальных.
Подтверждение этому можно найти в обозрениях преподавания. Они свидетельствуют, что разделение началось с 1842/43 учебного года, так как в обозрении преподавания предметов указано, что лекции по естественному разряду «имеют открыться только с 1842/43 учебного года»87. В РГИА сохранились списки предметов, которые Харьковский университет в 1841 г. направил министру, где к вспомогательным наукам для обоих отделений были отнесены алгебра, геометрия, тригонометрия для естественников, а обязательными для обоих отделений названы начертательная геометрия и рисование88. Таким образом, в Харьковском университете подготовка к разделению физико-математического факультета началась в 1841 г., а само разделение датируется 1842 г., тогда как в остальных русских университетах оно состоялось несколькими годами ранее.
Через четыре года после начала «опыта» по разделению физико-математических факультетов, в 1840 г., министерство решило подвести промежуточные итоги введенного в 1837 г. разделения на разряды. Совет Московского университета резюмировал, что «с постепенным возвышением учебных занятий, с пополнением кафедр новыми преподавателями и с усиливающимися средствами Московским университетом для полноты университетского учения признается совершенно полезным не ограничивать университет постоянным распределением всех учебных курсов»89. То есть университет признавал опыт разделения удачным и просил продлить таковой «по крайней мере еще на два академических года».
Университеты отправляли в министерство желательные изменения в составах предметов естественного отделения. Так, в 1841 г. попечитель Московского учебного округа граф С. Г. Строганов «считал бы неизлишним»90 на естественном отделении добавить изучение математической физики и анатомии человеческого тела, что и было сделано с 1841/42 учебного года91. При этом само второе отделение не находило «нужным упражнять [студентов] в высших курсах в математической физике, дабы не отвлечь от занятий избранными специальными науками, предоставляя собственному сознанию возрасту их весьма свойственно поддерживать необходимые для них занятия в науках математических, в чем они и должны дать отчет на окончательном экзамене»92. Однако вопреки желанию отделения математическая физика все же вошла в число обязательных для изучения естественниками предметов, что подтверждается обозрениями преподавания наук. Еще одним предложением для улучшения преподавания на естественном отделении было введение второго иностранного языка, а именно немецкого, как несомненно значимого для получения сведений о передовых исследованиях в области естествознания в XIX в.
Но не все профессора были согласны с разделением физико-математического факультета. В 1842 г., когда Московский университет предоставлял проект разделения на два отделения, профессор математики Н. Д. Брашман в своей записке сетовал, что студентам-естественникам было легче учиться, нежели математикам, так как почасовая нагрузка их была меньше. Он подчеркивал, что это оказывает вредное влияние на нравственность студентов, а кроме того, замечал, что ни в одном отделении университета не было столь малого числа часов преподаваемых наук, как в естественном отделении93. Меньшее число часов объяснялось тем, что кафедры технологии и сельского хозяйства не были заняты и в то же время у естественников существовали практические занятия и экскурсии, которые занимали определенное время после учебы. В ответ на замечания Н. Д. Брашмана профессора естественного отделения ответили, что обучение на естественном отделении требует не меньших усилий, чем на математическом94.